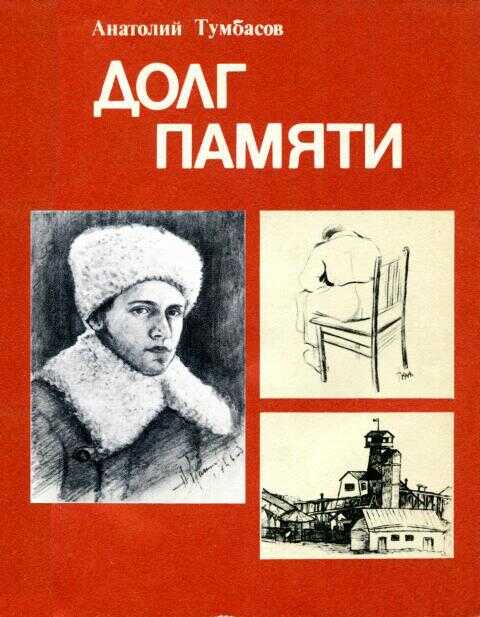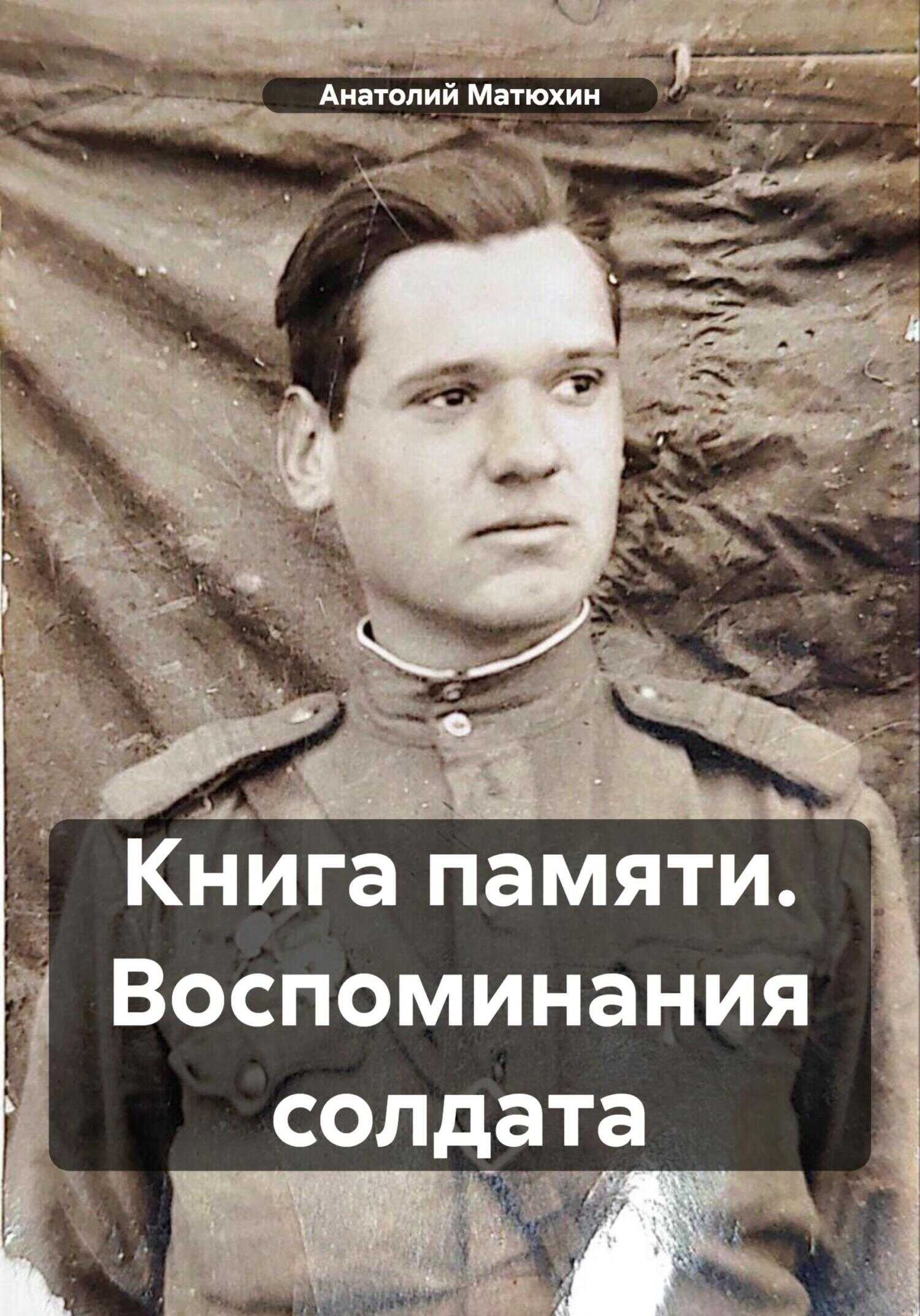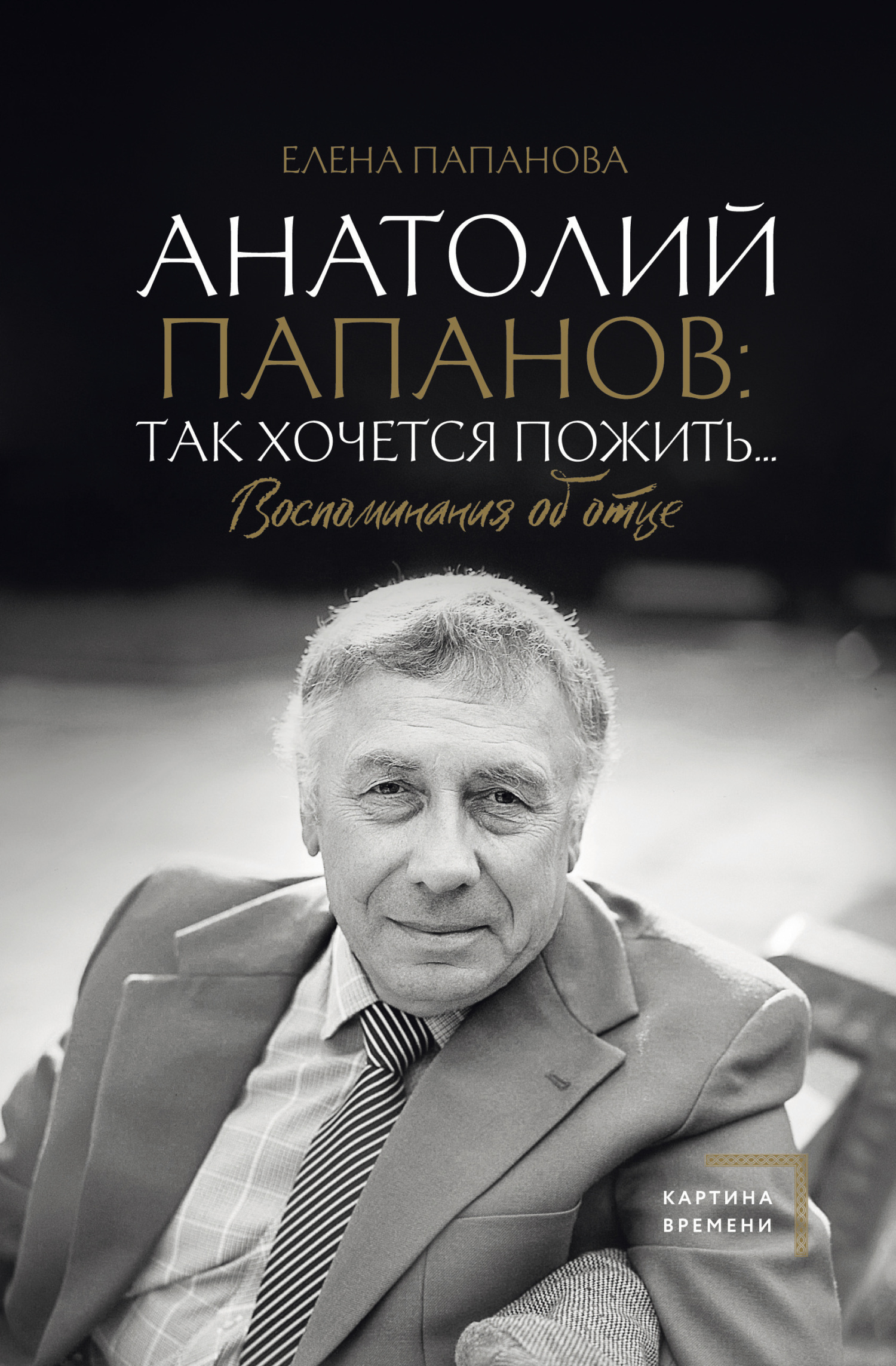Товарищество на вере. Памяти Инны Натановны Соловьевой - Анатолий Смелянский
Книгу Товарищество на вере. Памяти Инны Натановны Соловьевой - Анатолий Смелянский читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
То, что М. Чехову удавалось иногда через свою роль передать дух и смысл всего спектакля, – дело известное. Он ведь и Хлестакова играл параллельно мхатовскому ансамблю, играл в других спектаклях, с другими исполнителями, возвращая русский театр в дорежиссерскую эпоху (невозможно представить Э. П. Гарина, мейерхольдовского Хлестакова, в любой иной режиссерской композиции). «Коллективная режиссура», как и коллективное драматургическое сочинительство, были стойкими увлечениями Чехова.
Ему казалось, вполне утопически, что режиссеры, имея одну общую задачу и постоянно влияя друг на друга своими художественными замыслами и образами, выжидают результатов столкновения этих образов и мечтаний. «И если режиссерам действительно удается сделать это в чистой, безличной, жертвенной форме, то результат выступает как новая прекрасная творческая идея, удовлетворяющая всех режиссеров и удовлетворяющая индивидуальности каждого из них» (М. А. Чехов. Литературное наследие: В 2 т. Т. 1. М.: Искусство, 1995. С. 104).
Идея надперсональной, жертвенной по отношению друг к другу коллективной режиссуры была долговременным заблуждением М. Чехова. Выращенный искусством персональной режиссуры, прежде всего Вахтанговым, он в дальнейшей своей актерской практике с режиссурой, соразмерной его актерскому гению, больше не сталкивался. В дальнейшем, особенно за пределами России, это поставит его не раз на грань катастрофы.
Спектакль «Дело», в отличие от «Гамлета» и «Петербурга», не был обременен коллективной режиссурой. Борис Сушкевич не был гениальным режиссером, но он обладал внятной способностью сочинить спектакль как художественное целое и инкрустировать уникальное дарование М. Чехова в некую хорошо продуманную композицию целого. Он пригласил в соавторы художника Николая Андреева, автора знаменитого гоголевского памятника. И Андреев своими средствами передал холодную пустынность старинных российских канцелярий и официальных кабинетов. В гигантскую величину зрителю был явлен урезанный портрет царя, представленного лишь огромными ботфортами и лосинами. Пройдет несколько лет, и Б. В. Алперс с опасной догадливостью впишет этот намек в «список преступлений» МХАТа Второго: мол, чудовищна не конкретная власть, а любая власть во все времена. Были бы лосины с ботфортами (Советский театр. 1931. № 5/6. С. 18).
Б. М. Сушкевич и Н. А. Андреев с особенной изобретательностью подавали чиновничьи эпизоды. Вынесенные на самый край сцены, они казались оживленными барельефами, вполне в духе андреевского памятника автору «Ревизора». Статуи Закона и Фемиды – описывает критик – сопутствовали всему спектаклю в качестве боковых порталов сценической архитектуры. Надписи на статуях поучали: «Закон – блаженство всех и каждого» и «Гнушаясь мерзости коварства, решу нелицемерно при…». Вращающаяся сцена показывает то уютный интерьер Муромского, то монолитный департамент, построенный из одних необъятных шкафов, то кабинет сановника с одними «императорскими ботфортами» на гигантском портрете. И далее важные впечатления от режиссерской партитуры спектакля: «Ритм пьесы передан с особой манерой актерской речи, свистящими звуками, хрипом, рычанием, гнусавыми басами и фальцетами чиновников; шаркающими ногами, спиралями извивающихся спин, шелестом бумаг, шорохом и скрипом перьев. О взятках здесь актеры говорят с комическими ударениями. <…> В конце каждой картины четко ставится точка вылепленной фразой и округляющей ее мизансценой. „А в судах ничего, и по воскресениям торгуют“, – нараспев изрекает Иван Сидоров (Лагутин – типичный исполнитель роли) под занавес первой картины. Или перед концом второй Варравин (Готовцев) басит Тарелкину прямо в ухо: „А почтение ты мне все-таки окажи“. Или в четвертой – хор чиновников шепчет: „Самонужнейшие бумаги“. И Варравин скрывается за занавесом, угодливой походкой направляясь к князю – „на подпись“. Готовцев играет Варравина бурбоном, бестией, крысой, жестоким чудовищем. Его образ вырастает в инквизитора канцелярии. Но за внешними повадками, угловатыми жестами, мимикой подлого лица этого Варравина чувствуется непроизвольно веселая издевка актера над своим героем. То же должно сказать и о Подгорном в роли князя, геморроидального и подагрического опереттомана, бездушного деспота, напевающего мотив модной шансонетки даже перед трупом злосчастного просителя – Муромского».
Из этого незаурядного портрета, принадлежащего С. А. Марголину, видно, насколько слаженным был спектакль, в котором солировал Михаил Чехов. Кстати, тот же Марголин с редкой для критики тех лет лирической силой передает высшие минуты М. Чехова в Муромском. «Беда настигает Муромского врасплох. Чехов показывает растерянность и беспомощность своего помещика. <…> Никто и не замечает, каким образом этот дряхлый старец, с трудом волочащий ноги, обутые в ботфорты со шпорами, но уже привыкшие к валенкам, так неожиданно для всех становится героем. Нравственная и моральная сила оскорбленного отца выпрямляет сутулые плечи и зажигает огнем усталые глаза. Муромский – Чехов первый раз в своей долгой жизни понимает действительность как она есть и восстает против своей действительности. <…> Это победа чудесного таланта, оспаривающего право своеобразного толкования Муромского у драматурга».
Реакция законодателей театральной среды была на редкость единодушной. 7 февраля Мейерхольд отправляет телеграмму: «Дорогой Михаил Александрович, вы чудесны в роли Муромского. Поздравляю Вас с новой победой. И спектакль в целом – превосходный спектакль. Привет. В. Мейерхольд» (В. Э. Мейерхольд. Переписка. М., 1976. С. 262). В копилку наблюдений над «поэтикой слабости» следовало бы занести несколько эксцентрических озарений-трюков Чехова, запомнившихся товарищам по цеху. Игорь Ильинский спустя десятилетия будет вспоминать, как М. Чехов «с важностью надевает все регалии», перед тем как отправиться на последнее сражение в канцелярию (Ильинский И. Сам о себе. М.: Искусство, 1984. С. 213).
В конце сезона 1926/27 года И. Н. Берсенев на страницах враждебного МХАТу Второму «Нового зрителя» сообщал, что «Дело»
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим отзывом от прочитанного(прослушанного)! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Уважаемые читатели, слушатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.
- 1. Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации.
- 2. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний.
- 3. Просьба отказаться от нецензурной лексики.
- 4. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.
Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор knigkindom.ru.
Оставить комментарий
-
 Гость Татьяна05 июль 08:35
Спасибо. Очень интересно ...
В плену Гора - Мария Зайцева
Гость Татьяна05 июль 08:35
Спасибо. Очень интересно ...
В плену Гора - Мария Зайцева
-
 Фарида02 июль 14:00
Замечательная книга!!! Спасибо автору за замечательные книги, до этого читала книгу"Странная", "Сосед", просто в восторге....
Одна ошибка - Татьяна Александровна Шумкова
Фарида02 июль 14:00
Замечательная книга!!! Спасибо автору за замечательные книги, до этого читала книгу"Странная", "Сосед", просто в восторге....
Одна ошибка - Татьяна Александровна Шумкова
-
 Гость Алина30 июнь 09:45
Книга интересная, как и большинство произведений Н. Свечина ( все не читала).. Не понравилось начало: Зачем постоянно...
Мертвый остров - Николай Свечин
Гость Алина30 июнь 09:45
Книга интересная, как и большинство произведений Н. Свечина ( все не читала).. Не понравилось начало: Зачем постоянно...
Мертвый остров - Николай Свечин