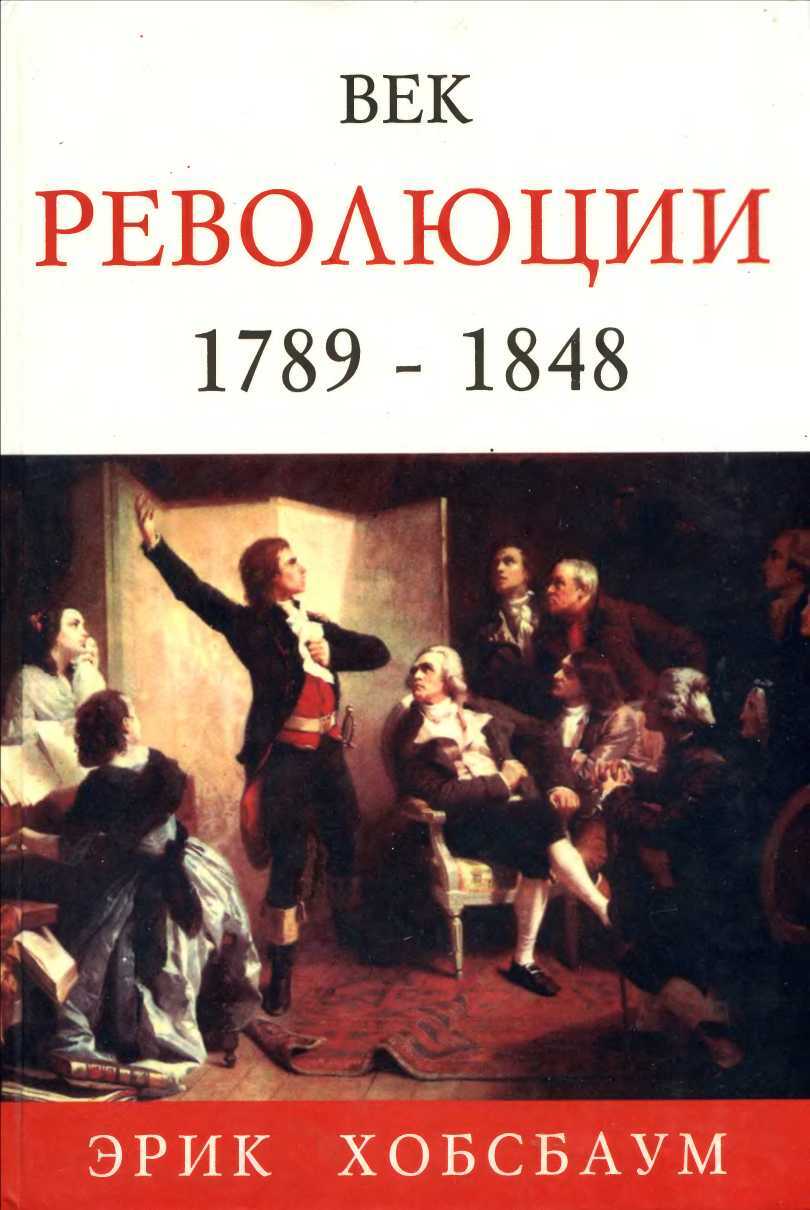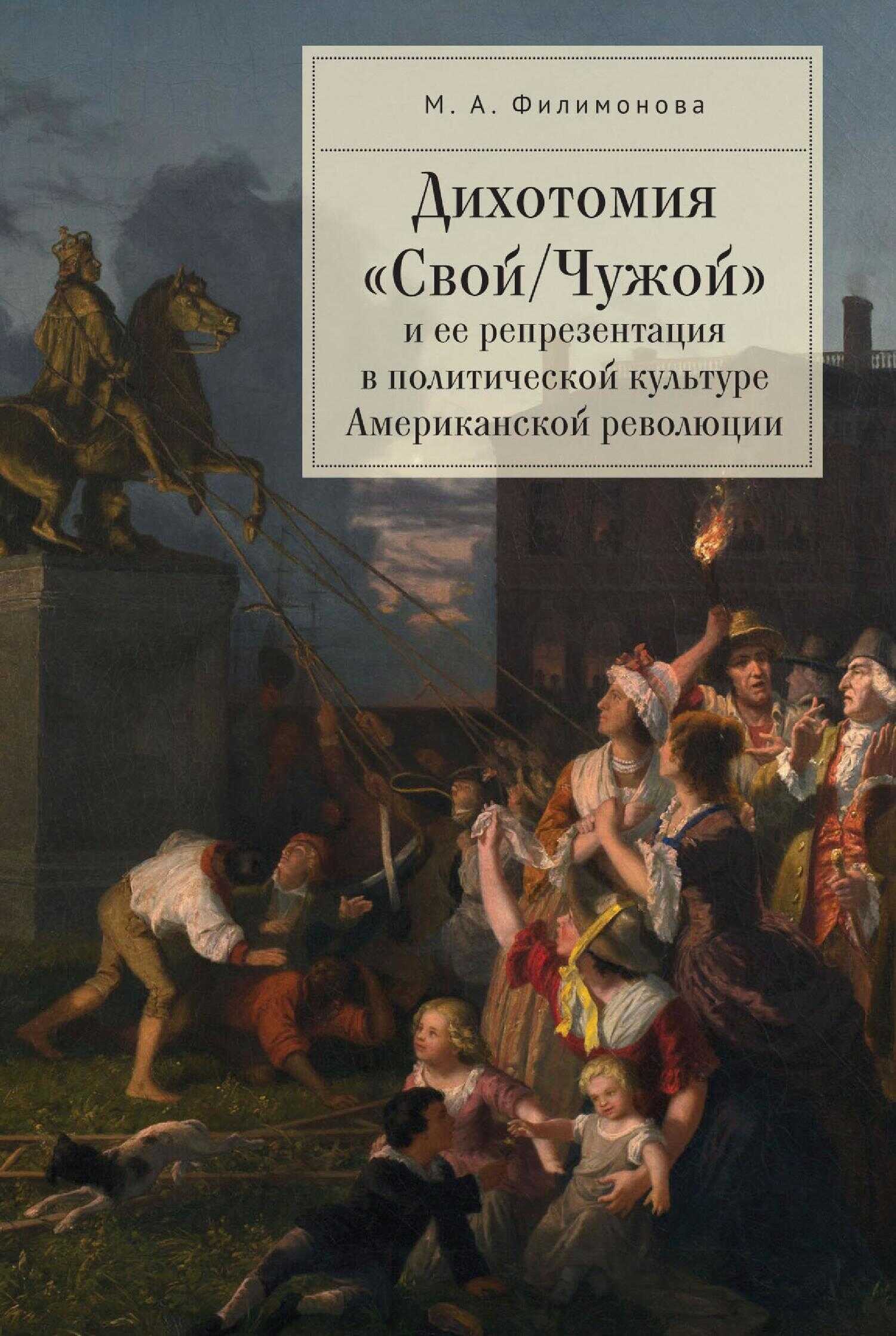Локомотивы истории: Революции и становление современного мира - Мартин Малиа
Книгу Локомотивы истории: Революции и становление современного мира - Мартин Малиа читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Сопоставления с 1640–1688 гг.
Основные различия между революциями в Англии и Франции уже упоминались. Во-первых, 1640 г. и его последствия мыслились и переживались как реставрация, а не инновация, и потому несли в себе внутренний ограничитель радикализации. События 1789 г. и их продолжение, напротив, воспринимались как намеренное революционное «перерождение», радикальность которого, следовательно, преград не имела. Во-вторых, идейная оболочка английских событий была религиозной, ориентированной на сверхъестественное, а идеи, вдохновившие французские события, носили светский, решительно мирской характер, что подкрепляло разницу в представлениях двух революций о времени.
Другой радикализирующий фактор во французском случае — невероятное количество вещей, которые надлежало ниспровергнуть. Ранее уже упоминалось, что в результате провала кальвинизма во Франции церковные структуры, уровень богатства духовенства и догматическая культура остались там почти как в XVI в., тридентская контрреформация усугубила положение, а янсенистская контрреформация лишь осложнила это наследие, не облегчив его гнёта. Выше отмечалось также, что формирование современного государства осуществлял королевский абсолютизм, за счёт всех «промежуточных инстанций». Следовательно, нужен был второй раунд государственного строительства, чтобы предоставить гражданскому обществу подлинно современную, то есть партиципаторную, роль. Процесс предстоял тем более мучительный, что абсолютистская централизация не проникла глубоко в государственное устройство и фактически не затронула сеть архаичных и мешающих местных органов власти. Частичная реформа такой громоздкой структуры потерпела явную неудачу во время движения абсолютизма по нисходящей в XVIII в., главные примеры — судьба парламентов Мопу и инициатив Тюрго.
Накопившийся груз проблем и неудач к 1789 г. поставил страну перед срочной необходимостью массы институциональных изменений. А когда прорывается долго создававшийся затор, за ним следует потоп — бурная радикализация, течение которой мы уже проследили. Несомненно, неукротимая «гидродинамика» революции — одна из причин, почему она увлекла за собой столь многих и так глубоко прорвалась в политическую систему, при этом столь многое уничтожив и нанеся Франции раны, которые пришлось залечивать сто лет.
Ещё один фактор радикализации — узость каркаса французского «старого режима», в отличие от его британского собрата и тем более другого берега Атлантики, где таковой вообще отсутствовал. Хотя и французское, и британское государства представляли собой священный порядок, в котором монархия, церковь и аристократия взаимосвязаны и взаимозависимы, во Франции это сильнее выражалось[263]. Здесь король одновременно являлся «внешним епископом» (eveque du dehors) и первым дворянином королевства. Иными словами, все три составляющие системы сходились в одной точке. Следовательно, объединение «первого» и «второго» сословия с «третьим» в июне 1789 г. автоматически превратило монархию в призрак, а также передало всю полноту священного суверенитета монарха — отныне священной и суверенной Нации. Английская сословная система XVII в., напротив, начиналась с довольно широкой формулы: духовные лорды, светские лорды и общины, — а при Стюартах всё стало ещё проще: король, лорды и общины. Поскольку лорды и общины, то есть парламент, вместе совершили революцию против короля (желая только его образумить, не более), система в целом не подверглась десакрализации. И когда при Содружестве сам парламент был распущен, общество, по-прежнему оставшееся религиозным, решительно отвергло новый порядок, встретив Реставрацию, можно сказать, с распростёртыми объятиями. В итоге получилась «разбавленная» современность, то есть совместный суверенитет общества (или, по крайней мере, его элиты) и монарха, создавший условия для постепенного перехода к настоящей современности, когда у страны будет соответствующее настроение.
Поэтому во Франции действие разворачивалось гораздо быстрее, чем в Англии. Было значительно больше гражданского (а не военного) насилия, то есть террора. И больше социально-экономических нарушений и/или преобразований: конфискация имущества, непрекращающаяся инфляция, экономический кризис, материальная нужда.
Это значит, что во Франции политический и социальный вопросы впервые слились воедино и не поддавались разрешению по отдельности. Чтобы подчинить монархию обществу, необходимо было уничтожить сословную систему и объединить всех «граждан» в единую нацию на почве равенства. Следовательно, французская революция была направлена одновременно против «произвола» и «привилегий», против «деспотизма» и «аристократии». Она совершалась ради свободы и равенства. Иными словами, ей пришлось быть сразу и политической, и социальной революцией (ибо при «старом режиме» XVIII в., когда большинство населения не знало грамоты, поднимать вопрос о политической демократии и всеобщем избирательном праве означало ставить самый важный, социальный вопрос).
Но французская революция пошла ещё дальше. Если представители духовенства решали (как делали большинство из них), что не могут предать священного монарха и принести присягу на верности (то есть подчинение) чисто светской власти нации, тем более наперекор прямому запрету папы, они разделяли судьбу «тирана» и «аристократов». Так революция стала означать объявление церкви вне закона и в конечном счёте дехристианизацию нации, наряду с заменой религии в любой форме культом разума или безликого Верховного Существа.
Таким образом, крайние пределы мыслимых изменений в двух случаях существенно различались. В Англии таким пределом стала левеллерская республика со всеобщим избирательным правом. (Значение протосоциализма диггеров сильно преувеличено радикалами XX в., искавшими своих предшественников, — в ту эпоху он не играл большой роли.) И этот крайний предел 1650-х гг., конечно, вошёл кульминационным пунктом в программу французской революции. В промежуточном американском случае республика, не прижившаяся в Англии, пустила прочные корни в колониях, однако без французского итога — всеобщего избирательного права, о котором во время переворота 1770-х гг. речь никогда не шла. Недостигнутый крайний предел во Франции установили наиболее крайние требования кризисного 1793 г.: «социализирующие» «Вантозские декреты» и эбертистская дехристианизация осенью. Тремя годами позже, восставая против термидорианской реакции, Гракх Бабёф увенчал этот протосоциализм эскизом диктатуры пролетариата.
Но даже без этого намёка на 1917 г. плоды 1789 г. представляли собой полномасштабную, воинствующую современность. Суверенитет и сакральность были спрессованы в одно целое, обладающее унитарной общей волей, — Нацию (или Народ), единую и неделимую.
Атлантические революции в сравнении
Консолидация французской республиканской традиции после 1870 г. приводит нас к концу череды революций, которые установили прочные новые порядки, режимы и мифы, до сих пор существующие в нашем мире. Все более поздние революции XX в., как уже отмечалось, больше не являются реальными мировыми силами, хотя обломки режимов, ими созданных, всё ещё загромождают пейзаж. Наследие же революций, которые можно назвать атлантическими, соединившись, произвело на свет то, что после 1989 г. стали именовать «рыночной демократией». (В XIX в. само собой подразумевалось, что в любом демократическом государстве, да и в любом функционирующем обществе, есть рынок. Понятие «рыночная демократия» появилось после краха советской плановой экономики в 1980-х гг., а до тех пор страны, не входящие в советский лагерь,
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим отзывом от прочитанного(прослушанного)! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Уважаемые читатели, слушатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.
- 1. Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации.
- 2. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний.
- 3. Просьба отказаться от нецензурной лексики.
- 4. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.
Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор knigkindom.ru.
Оставить комментарий
-
 Гость Lisa24 февраль 12:15
Автор пишет хорошо! Но эта книга неудачная. Вроде интрига есть, жаль, неинтересная. Скучно! ...
Хозяйка гиблых земель - София Руд
Гость Lisa24 февраль 12:15
Автор пишет хорошо! Но эта книга неудачная. Вроде интрига есть, жаль, неинтересная. Скучно! ...
Хозяйка гиблых земель - София Руд
-
 Dora23 февраль 10:53
Интересное начало ровно до того, как ведьма добралась до академии, и всё, после этого ее харизма пропала. Дальше стало скучно,...
Пикантная ошибка - Екатерина Васина
Dora23 февраль 10:53
Интересное начало ровно до того, как ведьма добралась до академии, и всё, после этого ее харизма пропала. Дальше стало скучно,...
Пикантная ошибка - Екатерина Васина
-
 Гость Татьяна22 февраль 23:20
Спасибо автору. Интересно. Написано без пошлости. ...
Насквозь - Таша Строганова
Гость Татьяна22 февраль 23:20
Спасибо автору. Интересно. Написано без пошлости. ...
Насквозь - Таша Строганова