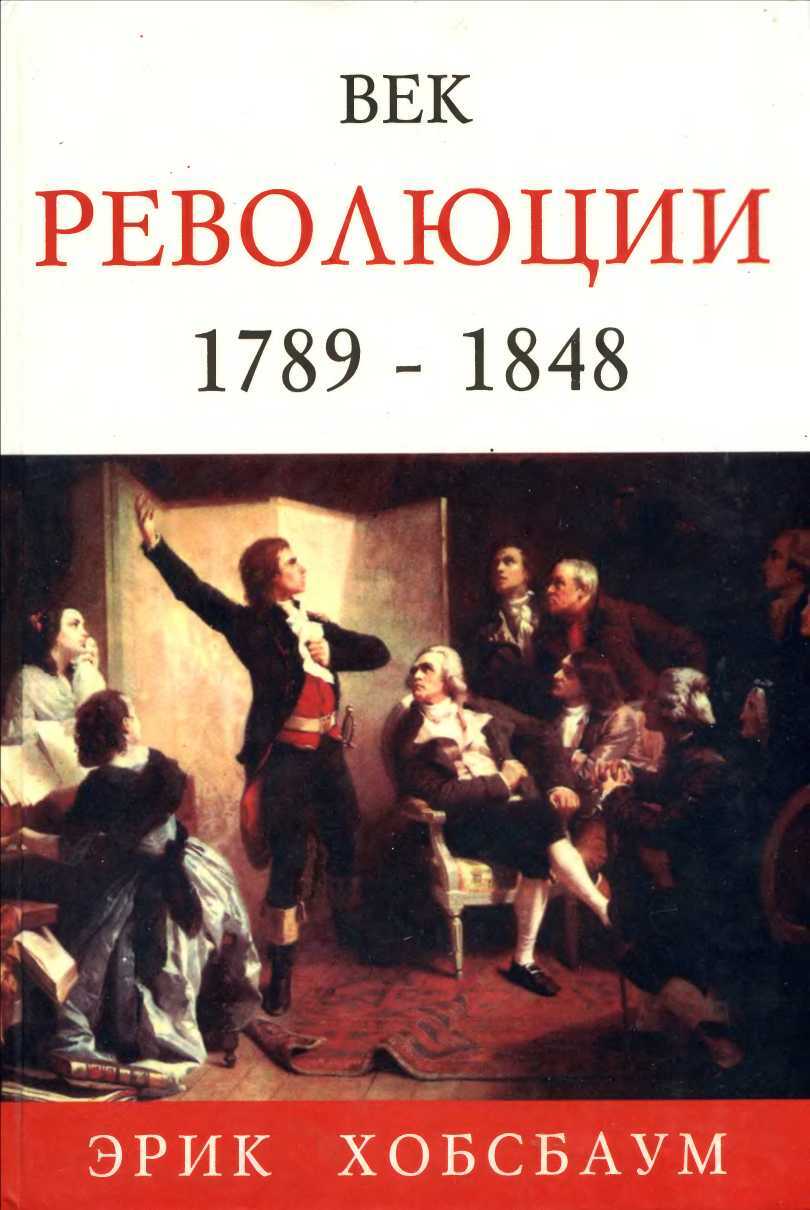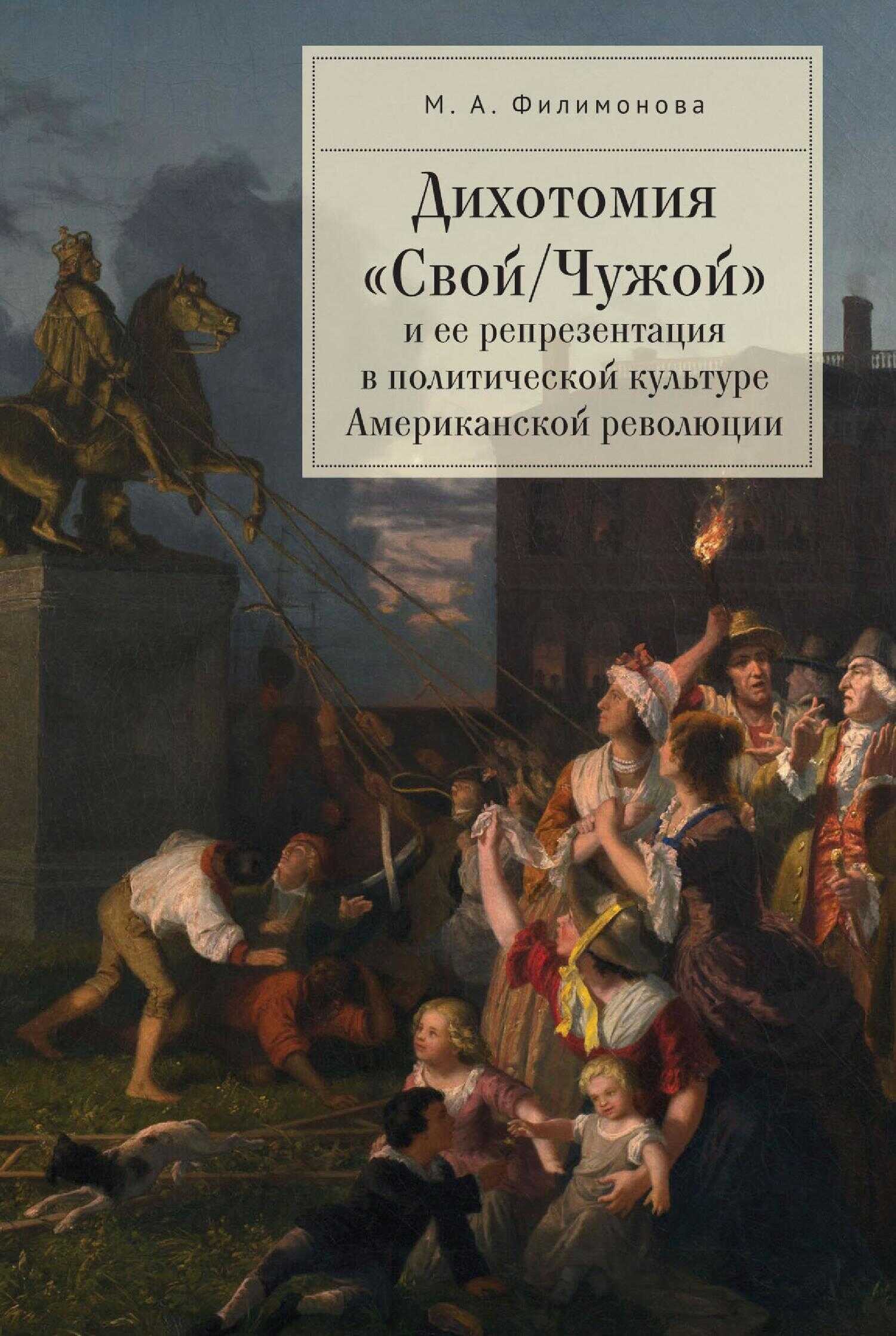Локомотивы истории: Революции и становление современного мира - Мартин Малиа
Книгу Локомотивы истории: Революции и становление современного мира - Мартин Малиа читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Как же соотносятся эти атлантические революции по своим итогам? Являются ли они особыми, отличными друг от друга или даже прямо противоположными? (Часто говорят, что одни революции «лучше» других[264], причём, разумеется, пальма первенства обычно отдаётся американской.) Или сливаются в общий атлантический революционный процесс, кумулятивный процесс развития современности, который длился целый век, с 1688 по 1789 г.[265]?
Начать стоит, пожалуй, с середины — 1776 г. Несмотря на громкие слова о том, что Творец создал всех людей равными, в американской «Декларации независимости», равенство на деле не играло центральной роли при развёртывании американской революции. Её главной темой была свобода, о чём свидетельствуют памятный «Колокол Свободы», установленный в Зале независимости в Филадельфии, и смелое заявление Патрика Генри в 1775 г.: «Дайте мне свободу или смерть!» Такая свобода подразумевала, во-первых, индивидуальную свободу как историческое право англичан от рождения, якобы гарантированное им «Великой хартией вольностей», которому стала угрожать британская королевская тирания; во-вторых, она означала национальную независимость от не менее ненавистной тирании парламента. Об обоих типах свободы говорит лозунг «нет налогам без представительства». Равенство в американском каноне не ставилось на одну доску со свободой до гражданской войны и Геттисбергской речи Линкольна, в которой великий президент взялся перетолковать смысл декларации «отцов-основателей»[266]. И даже после этого лозунг «равенства» никогда не вызывал столь живого отклика, как лозунг «свободы».
Равенство впервые обрело высокий (и фактически приоритетный) статус во французской революции, чья основополагающая декларация начинается словами: «Люди рождаются и остаются свободными и равными в правах». Собственно, жажда равенства — главная страсть, всё время двигавшая французской революцией. Мы уже видели истоки этого принципиального различия между «революциями-сёстрами» XVIII в.[267] Определялось оно не тем, кто бунтовал — торговая и плантаторская элита в Америке или санкюлоты и крестьяне в Париже, поскольку лидеры и идеологи французской революции даже на самой экстремистской её стадии в большинстве своём происходили из рядов элиты и в обоих случаях наиболее видную роль играли юристы и журналисты. Главное — против чего бунтовали американская и французская элиты. В конце концов, элиты обычно не отличаются эгалитарными взглядами.
В Америке «патриотичная» элита взбунтовалась не против более высокого социального слоя, а против заокеанской политической власти. Французская «патриотичная» элита, напротив, восстала против привилегированной по закону социальной страты — наследного дворянства, а по сути, против всей жёстко иерархической сословной системы[268]. В специфических условиях французского «старого режима» состоятельные и образованные верхние эшелоны «третьего сословия» имели все основания требовать равенства с родовым высшим дворянством, ибо имели тот же социальный и культурный статус. По существу, обе элитные группы представляли собой зачатки класса, который после революции будут называть «нотаблями», и значительно отличались от мелкого дворянства и мелкой буржуазии. Французские буржуа-«патриоты», таким образом, бунтовали не столько против знати как таковой, сколько против возмутительного принципа дворянства, унизительного правового различия между «высокородной» аристократией и простолюдинами «низкого происхождения», «разночинцами». Поэтому в основе французской революции лежал парадокс: представители привилегированной элиты свергали существующий порядок во имя равенства и «народа», пользуясь для этой цели более примитивной яростью истинно отверженных — санкюлотов.
Чтобы прорваться в истеблишмент, им пришлось полностью уничтожить существующие структуры и основать совершенно новый порядок, который обеспечил им достойное и даже преимущественное положение. Но при этом они создали новое, не менее возмутительное и унизительное разделение общества на богатых и бедных, буржуазию и «народ» (le bas people). И это разделение породило горькую озлобленность против «нового режима» в XIX в.
Какое отношение данные сравнения имеют к английскому примеру? В Англии парламентская оппозиция короне и пуританская оппозиция официальной англиканской церкви вообще никак не были связаны с равенством. Речь шла только о свободе, хотя и не в том смысле, что у американцев. Здесь имелась в виду свобода институтов, а не индивидов. Разумеется, исторические права англичан почитались священными, однако для их создания не требовалась революционная борьба; считалось, что они в достаточной мере гарантированы существующим обычным правом, якобы идущим от «Великой хартии вольностей», в настоящее же время нужно лишь освободить их от тирании новой королевской «прерогативы». Нечто подобное и сделал в ходе своей первой сессии «Долгий парламент». После этого борьба за свободу означала борьбу за вольности — и за само существование — парламента как органа против короны. Англичане не разделяли взгляд на монархию саму по себе как на тиранию, к которому пришли в ходе своей революции французы. В религиозных вопросах английская революция (или, как говорили тогда, «дело») подразумевала борьбу за выборную, но олигархическую организацию церкви (пресвитерианство) либо за выборную и конгрегационную (индепендентство). В какой-то мере обе группировки боролись за индивидуальную свободу совести, логическим следствием которой являлась веротерпимость. Однако терпимости требовали в отношении «деноминаций» (как стали называть различные религиозные течения в XVIII в.), а не индивидов. Наконец, эти конфессиональные «свободы» предполагались лишь для немногих избранных, а не для человечества в целом, огромное большинство которого относилось к категории «нечестивцев». Посему в борьбе англичан отсутствовал элемент универсализма, то есть идея прав, политических или религиозных, которые должны быть доступны, хотя бы потенциально, всему людскому роду. Свои свободы, привилегии, избирательные права они считали историческими и исключительно английскими, раз именно они за них сражались и их завоевали. Таким образом, английский «Билль о правах», принятый в 1689 г., — это билль о правах парламента, а не самых разных подданных короны.
Американцы же, напротив, дополняя свою конституцию «Биллем о правах», расширили общие принципы «Декларации независимости», чтобы предоставить конкретные права и всем отдельным гражданам, и их добровольным ассоциациям, религиозным или политическим. Поэтому универсализма в американском документе значительно больше, нежели в его более архаичном британском аналоге. Впрочем, даже расширенные права американцев касались исключительно вещей, которые государство — и только на федеральном уровне — может или не может делать в рамках их особой национальной конституции.
Процесс абстрагирования и универсализации прав достиг своей кульминации в ходе французской революции. Несмотря на то, что «Декларация прав человека и гражданина», аналогично американскому случаю, прилагалась к конкретной национальной конституции, она не служила лишь её дополнением. Она была разработана ещё до обсуждения проекта самой конституции и представляла собой преамбулу, провозглашающую фундаментальные принципы будущего управления нацией. Французы придали концепции прав абсолютный и универсальный характер, назвав свой документ декларацией «прав человека» — то есть прав, потенциально имеющих силу в любом месте в любое время. Более того, декларация 1789 г. включалась в качестве преамбулы почти во все последующие 11 конституций Франции и играет
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим отзывом от прочитанного(прослушанного)! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Уважаемые читатели, слушатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.
- 1. Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации.
- 2. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний.
- 3. Просьба отказаться от нецензурной лексики.
- 4. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.
Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор knigkindom.ru.
Оставить комментарий
-
 Гость Lisa24 февраль 12:15
Автор пишет хорошо! Но эта книга неудачная. Вроде интрига есть, жаль, неинтересная. Скучно! ...
Хозяйка гиблых земель - София Руд
Гость Lisa24 февраль 12:15
Автор пишет хорошо! Но эта книга неудачная. Вроде интрига есть, жаль, неинтересная. Скучно! ...
Хозяйка гиблых земель - София Руд
-
 Dora23 февраль 10:53
Интересное начало ровно до того, как ведьма добралась до академии, и всё, после этого ее харизма пропала. Дальше стало скучно,...
Пикантная ошибка - Екатерина Васина
Dora23 февраль 10:53
Интересное начало ровно до того, как ведьма добралась до академии, и всё, после этого ее харизма пропала. Дальше стало скучно,...
Пикантная ошибка - Екатерина Васина
-
 Гость Татьяна22 февраль 23:20
Спасибо автору. Интересно. Написано без пошлости. ...
Насквозь - Таша Строганова
Гость Татьяна22 февраль 23:20
Спасибо автору. Интересно. Написано без пошлости. ...
Насквозь - Таша Строганова