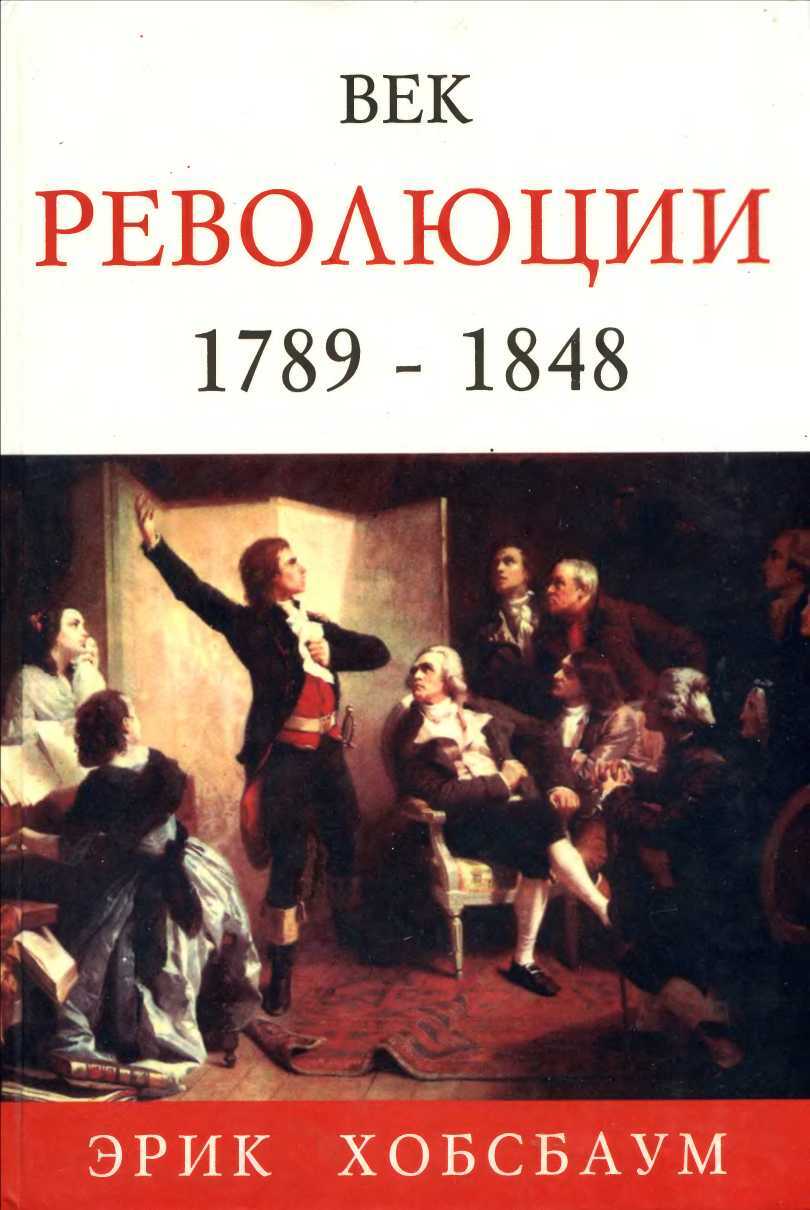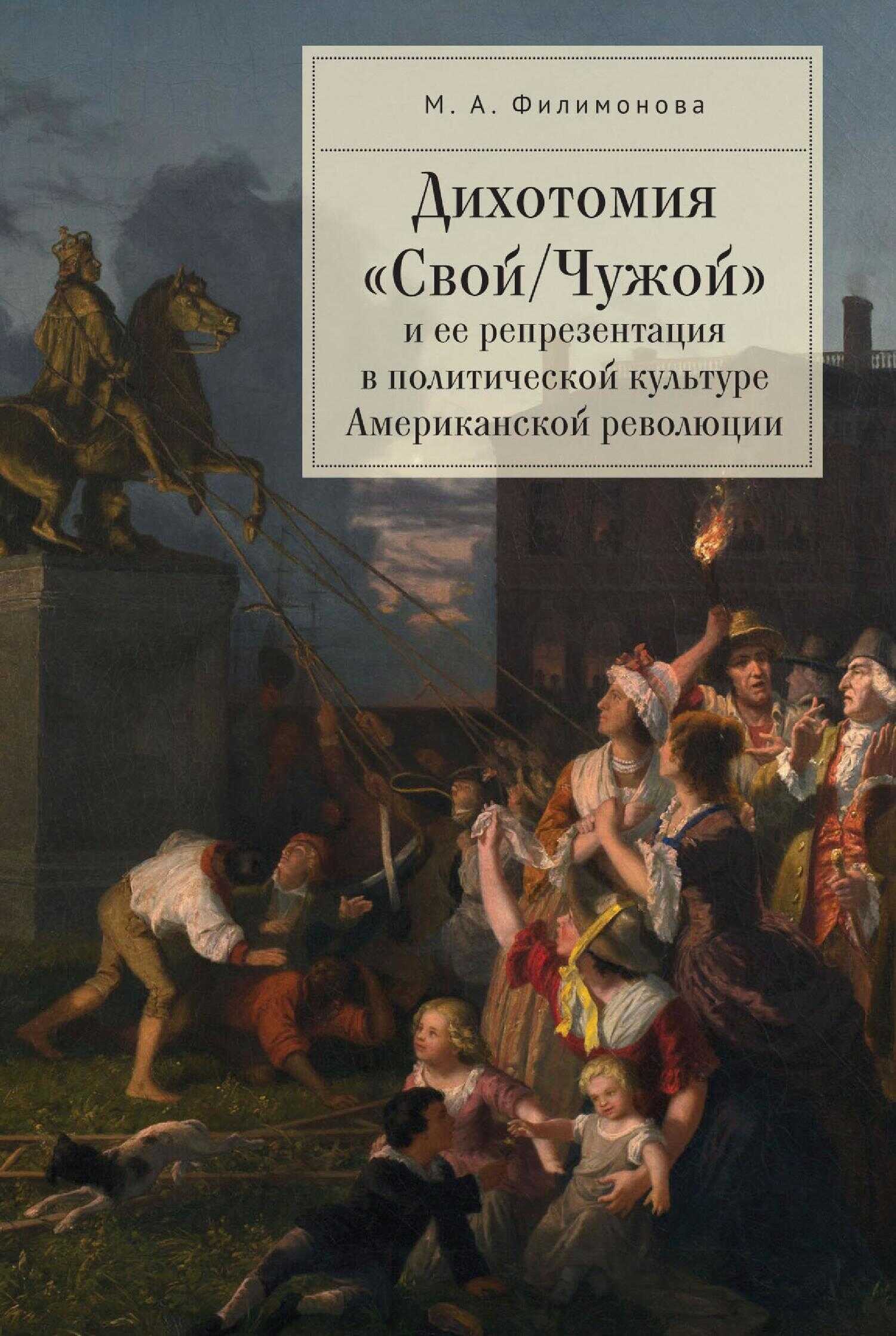Локомотивы истории: Революции и становление современного мира - Мартин Малиа
Книгу Локомотивы истории: Революции и становление современного мира - Мартин Малиа читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Германия, Центральная Европа и национализм
Для Германии 1848 г. стал гораздо более значительным событием, нежели для Франции: это был германский 1640-й или 1789 г. — только неудачный. Главная задача в связи с 1848 г. в Центральной Европе — объяснить, почему «великая революция» впервые не привела к классическому конституционному результату. Отчасти причина кроется в некоторых особенностях, выделяющих 1848 г. в общей последовательности европейских революций; другую причину можно найти в институциональных и культурных особенностях Германии и Центральной Европы[283].
По первому пункту следует сказать, что 1848 г. стал первым всецело сознательным революционным опытом Европы. Мы видели, что Английская революция, когда она только начиналась, не воспринималась как таковая; но в ходе её развития быстро пришло понимание истинной природы происходящего. К 1799 г. Франция и вся Европа уже хорошо знали сценарий драмы «великой революции». Ещё одной «неумышленной» революции нигде в Европе больше не могло произойти. Вследствие этого в феврале-марте 1848 г. все потенциальные действующие лица начавшейся драмы знали или думали, что знают, предназначенные им роли. И это обстоятельство во многом объясняет отмеченную ранее стремительную инициативу городской толпы. В Париже умышленно делали февральские дни повторением 1830 г. и ещё более великих 1789–1793 гг. А мартовские дни в Милане, Вене, Праге, Будапеште и Берлине представляли собой не менее умышленный и прямой отклик на парижский февраль. Однако предвидение природы предстоящего события может исказить и нарушить его действительный ход — в 1848 г. так и получилось. Как сказано выше, во-первых, сознательный и преждевременный радикализм городской толпы сразу отпугнул гражданское общество, заставив его занять более консервативную позицию, чем во время предыдущих «великих революций». Пим и Лафайет долго думали, что смогут держать толпу под контролем, а Франкфуртский парламент с самого начала понимал, что не сможет, и потому даже не пытался ею руководить. Во-вторых, консерваторы, особенно дворянство, тоже извлекли урок из 1789 г.; они тоже знали сценарий и ждали своего часа, не покидая короля в тяжёлую минуту, пока гражданское общество не начинало раскалываться, в особенности из-за социального вопроса и городского насилия (тогда как английские и французские дворяне, по крайней мере вначале, полагали, что выиграют от революции больше всех и станут естественными вождями нации, когда власть будет вырвана у короля).
Непоколебимый консерватизм дворянства в 1848 г. подводит нас к вопросу об институциональных и культурных особенностях Германии и Центральной Европы. В данном отношении стоит вспомнить, что выше говорилось о решающем значении для успешной «великой революции» предпосылки в виде сильного национального фокуса и в качестве иллюстрации сравнивались революционная Англия и просто мятежная Голландия. В Центральной Европе институционализированного национального фокуса не было, только военная монархия Гогенцоллернов в северной Германии и Габсбургов в Австрии и Италии. Зато на всей этой территории, в отличие от Голландии XVI в., существовало подлинное, современное национальное сознание. Именно конфликтом между национальным сознанием и институциональными рамками наднациональной династической и военной монархии в первую очередь объясняется провал 1848 г.
Это национальное сознание представляло собой явление нового типа в европейской истории. Уже указывалось, что западноевропейский национализм (в Англии и Франции) носил не этнический, а политический характер: он означал членство или гражданство в исторически-юридическом сообществе (под властью короны или нации — не важно). Пример — и завоевания — французской революции заставили всю зарейнскую Европу приноравливаться к западной концепции национального сообщества, ныне выражавшей себя в сокрушительно динамичной форме массовой мобилизации революционных граждан с оружием в руках. Однако французское политическое определение нации не отвечало институциональным реалиям Центральной Европы. В результате немцы, не без помощи романтизма, выработали новую концепцию национального существования: Volk (народ), объединённый по этническим и лингвистическим признакам. Определяемая таким образом национальность рассматривалась как культурная предшественница политико-институциональной нации, духовная матрица, по которой создаётся нация. Затем этнолингвистическую концепцию национальности переняли итальянцы, славяне, венгры; и не случайно революция в 1848 г. (за исключением особого случая Франции) охватила исключительно ту часть Европы, где политико-институциональную нацию ещё предстояло построить, но этнолингвистический национализм был уже полностью развит.
Реорганизация Центральной Европы в политические единицы по этнолингвистическим признакам означала бы абсолютное уничтожение монархических систем Гогенцоллернов и Габсбургов (а не просто их захват нацией, как произошло с английской и французской монархиями): Пруссия влилась бы в Германию, Австрия распалась бы на части. Но каждая из двух монархий опиралась на военную аристократию и гражданскую бюрократию, которые мыслили не этнолингвистическими, а династическими категориями и не желали собственного уничтожения. Поэтому прусская и австрийская аристократия не примкнула к революции даже в её эйфорический начальный период, когда царило почти полное единодушие. Благодаря такой преданности прусский и австрийский монархи всегда имели под рукой боеспособную армию, которой так недоставало Людовику XVI после взятия Бастилии.
Национальный вопрос в Центральной Европе также (наряду со страхом перед городской толпой) гасил революционный пыл гражданского общества. Отчасти это выражалось в перенаправлении революционной энергии с ограничения власти прусского короля на второстепенные, больные для националистов вопросы (например, о Шлезвиг-Гольштейне), что лишний раз настраивало Англию и Россию против германской революции. Выражалось это и в том, что либеральное гражданское общество, нуждаясь в армии прусского короля, чтобы отобрать Шлезвиг-Гольштейн у датчан (а возможно, и припугнуть Австрию), не дерзало выступать против него слишком смело. Наконец, главенство национального вопроса разделяло немцев со славянами и венграми, тогда как им всем следовало бы действовать сообща, если они хотели победить прусский и австрийский истеблишмент.
Результатом указанных обстоятельств стала так называемая прерванная революция. После мартовских дней и первоначальной капитуляции короля Франкфуртское национальное собрание и Берлинский ландтаг вели себя так, словно победили, и, по обычаю «великой революции», взяли на себя законодательные функции. Однако продолжавшиеся среди городской толпы волнения и возрастающая неоднозначность отношения гражданского общества к происходящему развязали королю руки. В конце года он двинул свою армию из Потсдама и приструнил берлинскую чернь. Это лишило франкфуртское и берлинское собрания оружия против короля. Теперь они могли принимать какие угодно конституции, но не имели средств провести их в жизнь. В следующем году король распустил оба собрания и отверг плоды их работы. Верховенство королевской исполнительной власти было сохранено, король пошёл только на небольшую уступку в виде «дарованной» или «установленной» конституции, согласно которой он оставался высшим сувереном.
После 1862 г. Бисмарк творчески развил и упрочил это решение. Когда либеральное большинство прусского ландтага попыталось расширить свои полномочия, отказавшись утвердить военный бюджет, Бисмарк ответил политикой «легитимистского бонапартизма». На примере Наполеона III он увидел, что всеобщее
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим отзывом от прочитанного(прослушанного)! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Уважаемые читатели, слушатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.
- 1. Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации.
- 2. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний.
- 3. Просьба отказаться от нецензурной лексики.
- 4. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.
Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор knigkindom.ru.
Оставить комментарий
-
 Dora23 февраль 10:53
Интересное начало ровно до того, как ведьма добралась до академии, и всё, после этого ее харизма пропала. Дальше стало скучно,...
Пикантная ошибка - Екатерина Васина
Dora23 февраль 10:53
Интересное начало ровно до того, как ведьма добралась до академии, и всё, после этого ее харизма пропала. Дальше стало скучно,...
Пикантная ошибка - Екатерина Васина
-
 Гость Татьяна22 февраль 23:20
Спасибо автору. Интересно. Написано без пошлости. ...
Насквозь - Таша Строганова
Гость Татьяна22 февраль 23:20
Спасибо автору. Интересно. Написано без пошлости. ...
Насквозь - Таша Строганова
-
 Юрий22 февраль 18:40
телеграм автора: t.me/main_yuri...
Юрий А. - Фестиваль
Юрий22 февраль 18:40
телеграм автора: t.me/main_yuri...
Юрий А. - Фестиваль