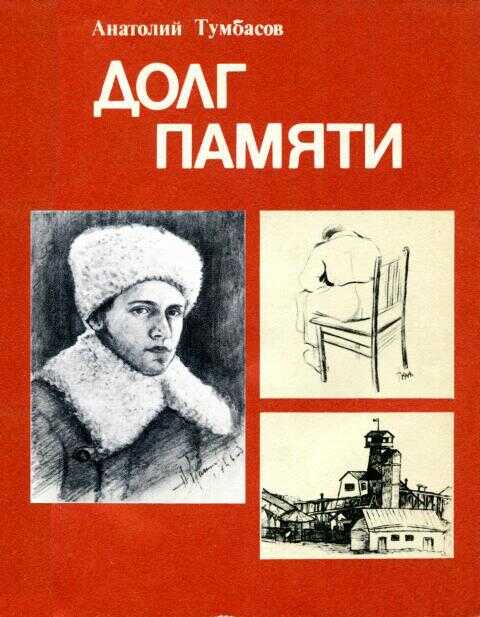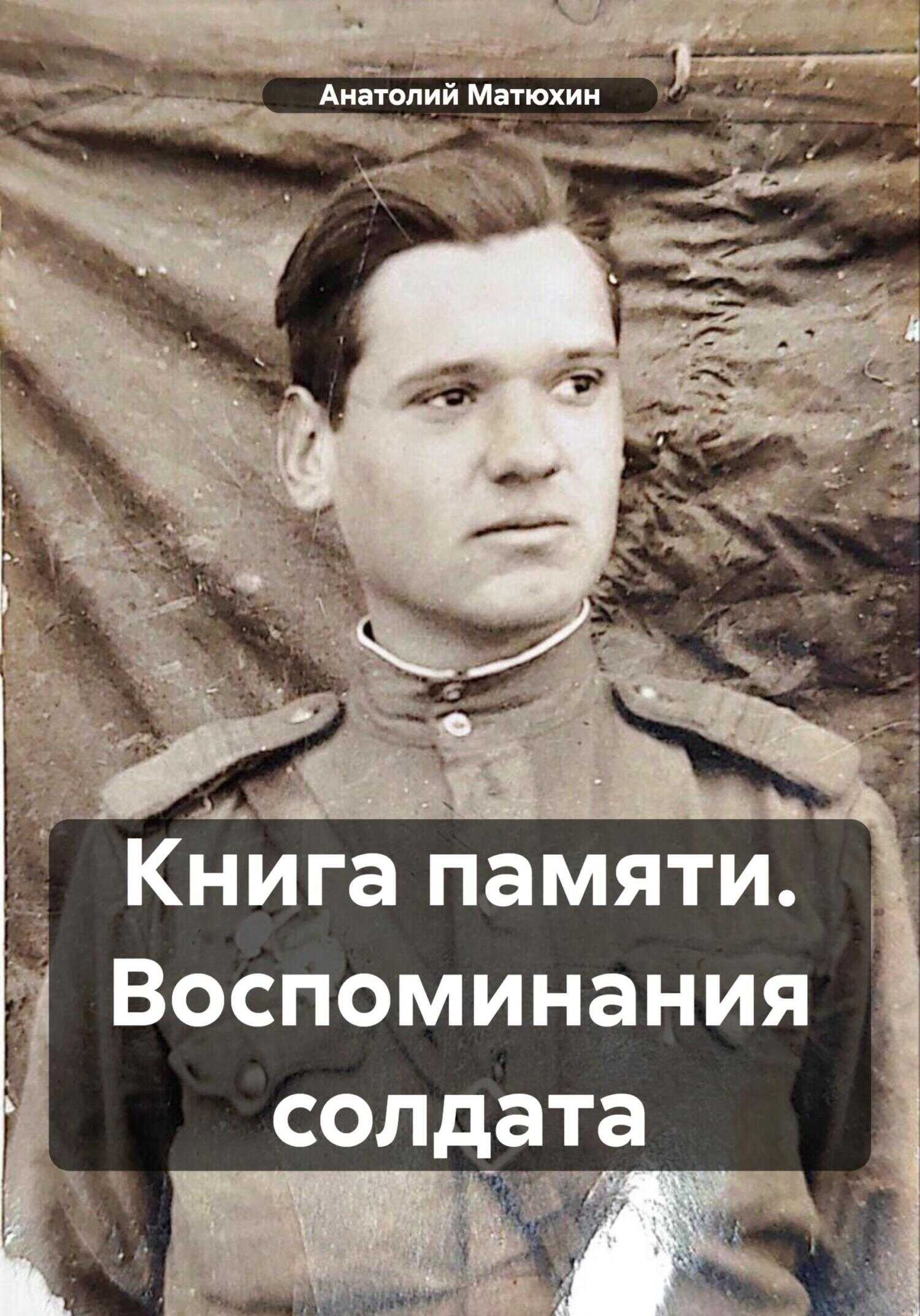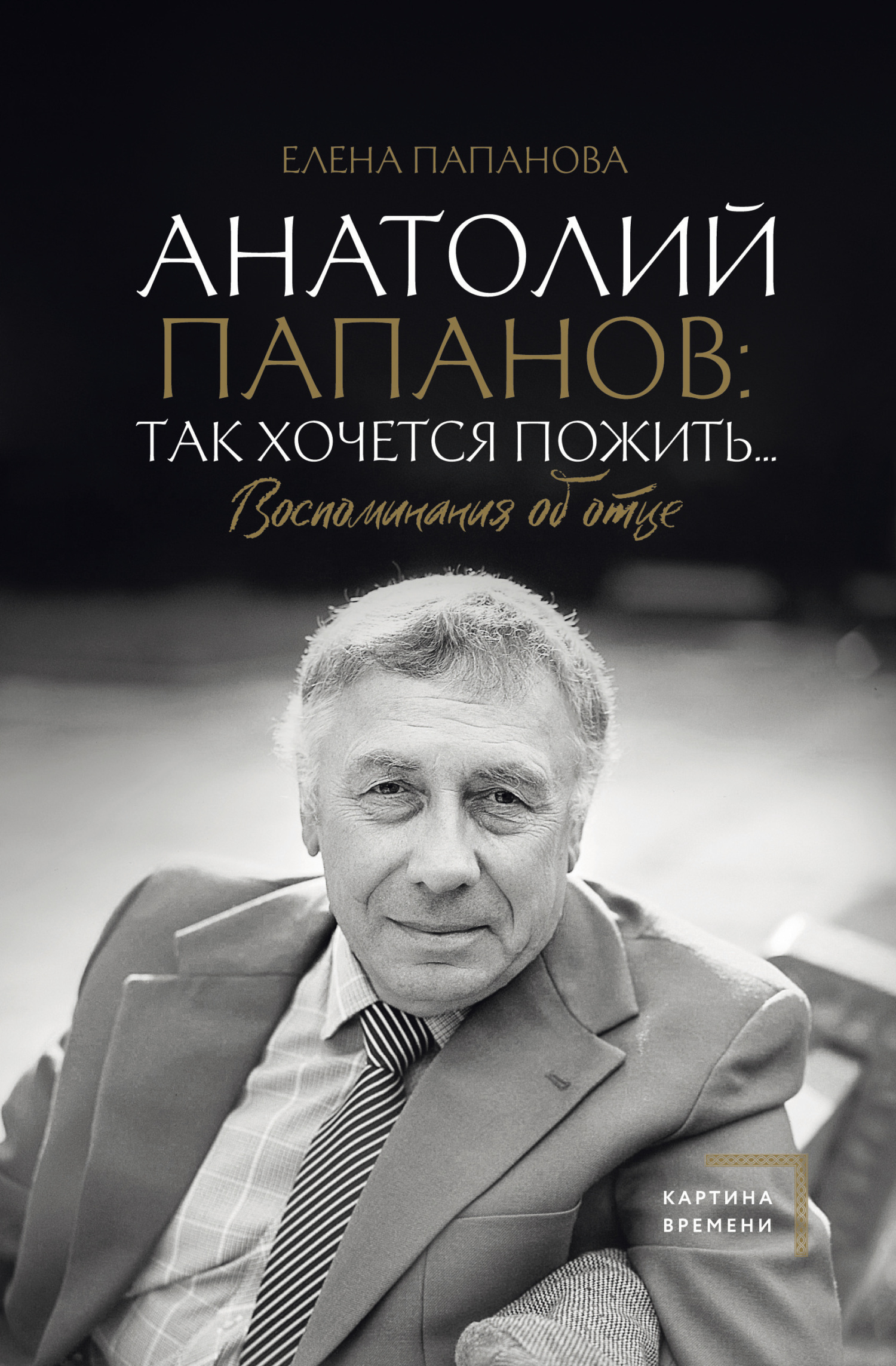Товарищество на вере. Памяти Инны Натановны Соловьевой - Анатолий Смелянский
Книгу Товарищество на вере. Памяти Инны Натановны Соловьевой - Анатолий Смелянский читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Опыт пушкинского спектакля, где К. С. истязал себя в поисках единства поэта и артиста, с одной стороны, и возможности соединения системы с теорией так называемого «обсеменения», которую развивал тогда Н.‑Д., – это уже предвестие катастрофы с Достоевским. Перечитайте «Историю одной роли», перечитайте стенограммы репетиций «Степанчикова», и вы поймете, о чем идет речь.
Несколько лет назад пришлось выступать вместе с Сергеем Юрским (дело происходило в Доме актера). Неожиданно для меня он вдруг заговорил о стенограммах репетиций «Села Степанчикова», опубликованных в свое время в прекрасной книге, составленной И. Н. Виноградской. Полагаю, что Юрский не знал ни возражений Н.‑Д., ни впечатления Бенуа, ни того, что случилось на выпуске Достоевского весной 1917 года. Он читал стенограммы для себя, чисто по-актерски и пришел к близким выводам. Дело идет о малоизученной «высокой болезни», проистекавшей, видимо, из двойственной природы актерской души К. С. Страсть к анализу разъедала его душу. Может быть, это то, что он сам про себя знал и чего в себе боялся, полагая себя «актером с придурью». Его актерское живое чувство требует и умоляет: «дайте пожить восторгом» (это запись К. С., начинающего пушкинский спектакль). Но «актер с придурью» хочет вывести потом и формулу восторга, разложить его на элементы. Бенуа посчитал это диагнозом, Н.‑Д. чувствовал тут непреодоленного «Алексеева». Но попробуйте оторвать одно от другого, и вы уничтожите феномен Станиславского. И потом, что там ни говори, никто не помнит сейчас «теорию обсеменения» Н.‑Д., система же К. С., перестав быть универсальной отмычкой или отупляющей религией, пришла в театральные школы мира как грамматика актерского ремесла. За эту грамматику дорого заплачено.
«Вместе жить, вместе умирать»
Он «не разродился ролью» Ростанева накануне переворота всей русской жизни. Была подорвана не только его актерская потенция, в корне изменилось дело Художественного театра. Радищева пишет об этом с предельной ясностью: «Внутренние и внешние причины совершенно исключили… какое-либо практическое взаимодействие Станиславского и Немировича-Данченко в искусстве. Они не только не работают вместе, но и не обсуждают новых постановок друг друга. У них возникают отдельные театры, их искусство развивается самостоятельно и параллельно. Их содружество касается лишь административного руководства Художественным театром».
Их держит вместе «административное руководство»? Напомню иное, гораздо более емкое определение: «слава Художественного театра». Отношение к этой славе тоже разное. В первые годы революции Станиславским владеет идея ликвидации МХТ и возникновения на его месте так называемого Пантеона. Н.‑Д. воспринимает эту театральную утопию как наивный большевизм. Сам он отстаивает имя фирмы, которую ни в коем случае нельзя резко реформировать. Ленинскую идеологию Н.‑Д. сравнивает с проказой, но к условиям этой проказы надо примениться. Не получился Пантеон, не получилось удержать старое «знамя». Театр покидает Россию на два года, и оттуда, из Америки, К. С. признается, что Н.‑Д. прав, что «Художественного театра больше нет».
Тем не менее они открыли театр для новой жизни. Правила этой жизни Н.‑Д. понимал гораздо лучше К. С. В нем пробудилась идеологическая закваска, на манер той самой «горькиады», которую он невзлюбил и отсек в начале века. Он научился ориентироваться в новых предлагаемых обстоятельствах, понял, как использовать славу театра в отношениях с новой властью. Оторванный от России, К. С. ему уже не кажется серьезным соперником. После успеха «Лизистраты» он уверен, что может обойтись без К. С. и в чисто художественном плане. Радищева приводит записанную Ф. Михальским фразу Н.‑Д., одну из самых тяжелых фраз, которую мне когда-либо приходилось читать об отношениях двоих: «Он [Станиславский] не актер больше и даже не режиссер». В новой крепкой труппе МХАТ он может быть использован «только как преподаватель».
В смысле «знамени» Н.‑Д. тоже был готов к решительному повороту. В архиве сохранилась запись 1925 года, времени постановки «Пугачевщины», когда Н.‑Д. обдумывал возможность «категорического отказа» от четвертьвековых накоплений театра: «Из старого репертуара Московского Художественного театра надо исключить: а) произведения литературы, неприемлемые для нашей современности (пример: весь чеховский репертуар, – по крайней мере, в той интерпретации, в какой эти пьесы шли)».
Чехова действительно обновили (новую редакцию «Вишневого сада» выпустили в 1928 году). Что касается перспектив К. С., то тут Н.‑Д. ошибся. Судьба подарила Станиславскому еще один творческий взлет, который он совершил с новой труппой МХАТа и без всякого контроля чужого «художественного разума». Так возникли в середине 1920‑х «Горячее сердце», «Женитьба Фигаро», да и «Турбины» бы не вышли без его помощи. Сам же Н.‑Д. оказался на несколько лет вне игры. «Старики» отсекают Музыкальную студию Н.‑Д., а вместе с нею и его самого: не от театра только, от России.
Два с лишним года, проведенные Н.‑Д. в Голливуде, это, конечно, попытка «мягкой» эмиграции, попытка трудоустройства, которая закончилась ничем. Радищева впервые воссоздает перипетии возвращения Н.‑Д. из Голливуда, предлагая довольно темный сюжет. Звучит обвинение К. С. в предательстве. Конечно, Н.‑Д. употреблял это слово не раз и раньше (люди театра используют это словечко по любому поводу). Но на этот раз, кажется, повод есть, и серьезный. Архив освещает переломный момент, когда Н.‑Д. простил К. С. и «старикам» обиду за свою Музыкальную студию и решил вернуться. Именно в этот момент К. С. идет к Луначарскому и о чем-то с ним договаривается. Прямых свидетелей разговора нет, есть косвенные. Но тут же приводится обескураживающее письмо наркома в Голливуд, в котором он не обещает Н.‑Д. «ничего определенного» по возвращении в Москву. Более того, пробрасывается фраза, которая звучит как чуть завуалированное предложение не возвращаться в Советскую Россию: «Во всяком случае, поскольку в Америке Вы устроились, взвесьте все плюсы и минусы Вашего возвращения сюда». Такие советы в ноябре 1927 года можно было давать только в исключительной ситуации и имея на то высшие полномочия.
Комментируя
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим отзывом от прочитанного(прослушанного)! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Уважаемые читатели, слушатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.
- 1. Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации.
- 2. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний.
- 3. Просьба отказаться от нецензурной лексики.
- 4. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.
Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор knigkindom.ru.
Оставить комментарий
-
 ANDREY07 июль 21:04
Прекрасное произведение с первой книги!...
Роботам вход воспрещен. Том 7 - Дмитрий Дорничев
ANDREY07 июль 21:04
Прекрасное произведение с первой книги!...
Роботам вход воспрещен. Том 7 - Дмитрий Дорничев
-
 Гость Татьяна05 июль 08:35
Спасибо. Очень интересно ...
В плену Гора - Мария Зайцева
Гость Татьяна05 июль 08:35
Спасибо. Очень интересно ...
В плену Гора - Мария Зайцева
-
 Фарида02 июль 14:00
Замечательная книга!!! Спасибо автору за замечательные книги, до этого читала книгу"Странная", "Сосед", просто в восторге....
Одна ошибка - Татьяна Александровна Шумкова
Фарида02 июль 14:00
Замечательная книга!!! Спасибо автору за замечательные книги, до этого читала книгу"Странная", "Сосед", просто в восторге....
Одна ошибка - Татьяна Александровна Шумкова