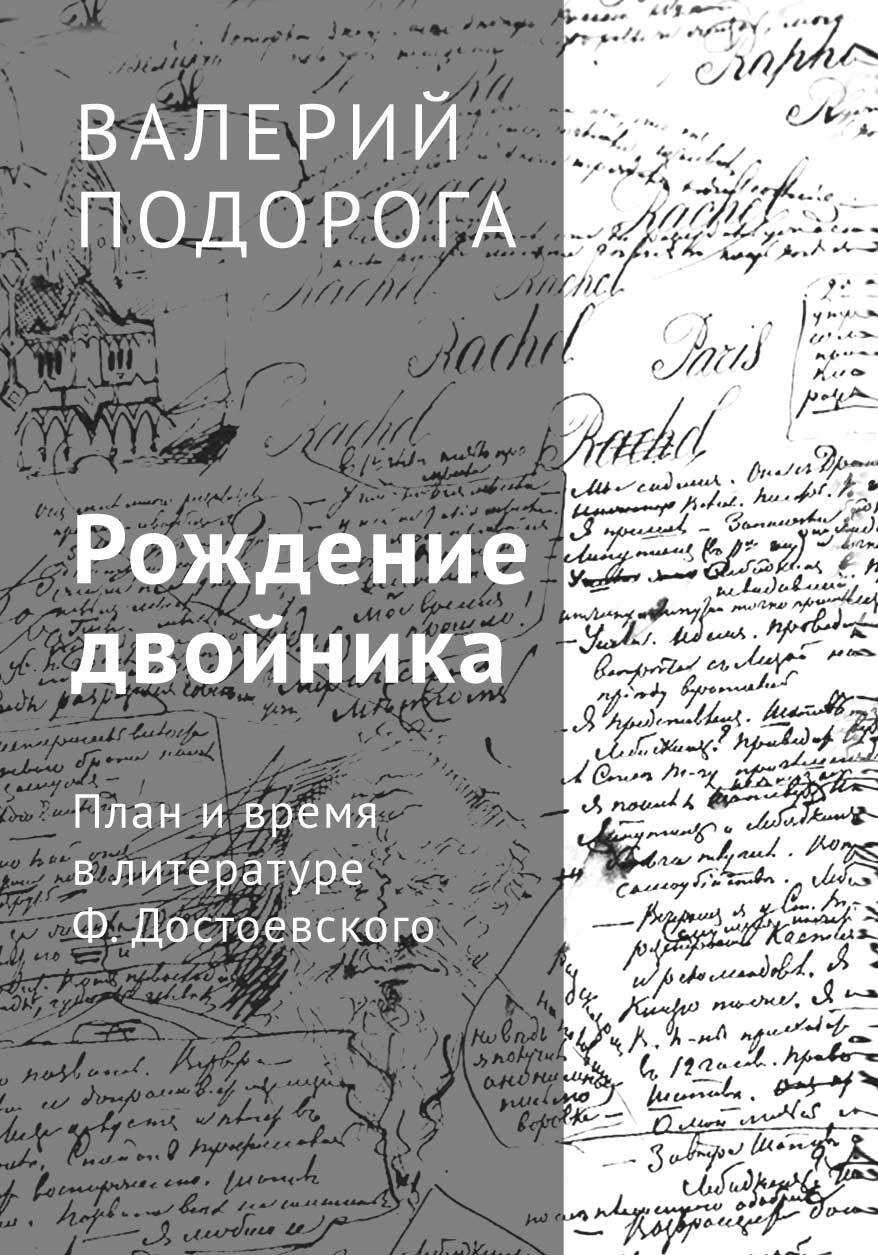Философская топология русской культуры - Сергей Александрович Азаренко
Книгу Философская топология русской культуры - Сергей Александрович Азаренко читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Уже в одной из своих ранних работ, где смысл высказывания терминологически определяется через «тему», он отмечает, что под значением, в отличие от темы, мы понимаем все те моменты высказывания, которые повторимы и тождественны себе при всех повторениях, что тема высказывания, в сущности, неделима. Значение высказывания, наоборот, распадается на ряд значений входящих в него языковых элементов. Значение знаков принадлежит к сфере языка как безличной и контекстно обращенной на себя системе средств коммуникации. Предложение, окруженное контекстом, то есть только в целом высказывании, обретает полноту своего смысла. Ответить можно только на это целое высказывание, значащий элемент которого – данное предложение. Необходимым моментом высказывания является экспрессивный момент, то есть субъективное эмоционально оценивающее отношение говорящего к предметно-смысловому содержанию своего высказывания. Из приоритета высказывания делается вывод, что мы не просто слышим слова, но слышим истину и ложь, доброе и злое, что слово всегда наполнено идеологическим содержанием[139]. Сознание в рамках панречевой концепции оказывается в полной зависимости от «знакового идеологического содержания», оно практически не знает по отношению к себе ничего внешнего.
Субъект, в понимании Бахтина, всегда участвует в речи как сознающий субъект, как автор своих высказываний, при котором предполагается сцепление с речью другого, в противном случае возможен стазис языка. Из того, что Бахтин критикует лингвистику как насилие над реальными речевыми актами, не следует, что в его собственной концепции высказывание не подчиняется аппарату анализа сознания. Диалогичность есть присутствие всех других субъектов высказывания, актуальных и потенциальных. В то время как открытость языка внешнему, стирание границы между речью и властью появляется за рамками диалогизма и тотального речевого авторства. Только стирание субъекта открывает язык его собственной визуальности, тому, что происходит через него, оставаясь внешним ему. Согласно современной лингвистике и философии, высказывание и действие соприкасаются не только внешне относительно друг друга, но между ними имеется необходимая внутренняя связь на перфомативном и иллокутивном уровнях.
Высказывание, по Делёзу – Гваттари, несет властность еще до того, как быть отмеченным синтаксически. Повествование есть не передача увиденного, а передача такого услышанного, которое о вас сказали другие. В силу чего первична не метафора, а косвенная речь. Метафора и метонимия зависят от уже существующей косвенной речи. Бенвенист отмечает, что у пчел нет языка потому, что, будучи способными передавать увиденное, они не могут передать то, что передали им. Язык является передачей слова, действующего как приказание, а не как коммуницируемый знак. «…Постоянно беря план содержания как феномен речи,– замечает Рыклин,– а не в соответствии с его собственными закономерностями, по сути, отрицая наличие таких автономных от речи образований, как тело, он (Бахтин.– С. А.) отчасти замкнул уже не язык, а речь на себя. Обязательным условием выявления тела как проблемы становится его выполненность в речи, оно замыкается существованием только в этой ипостаси»[140]. В результате не оказывается ничего внешнего для речи и выпадает проблематика имплицитных не дискурсивных предпосылок языка.
Хотя «Бахтин прекрасно чувствовал первичный фон стоящей за его концепцией культуры: не логоцентрический, а телесно-дидактический, когда тела формируются в зоне речевой дидактики, а мимика и жестикуляция доставляют лишь иллюстративный материал»[141]. (Тема телесного у Бахтина поднимается в книге «Творчество Франсуа Рабле».– С. А.) Современная гуманитаристика находится под несомненным влиянием бахтинского рассмотрения диалогизма «речевого события», но требовался выход за рамки «лингвистической парадигмы» исследования в сторону «событий мира», диаграмм взаимодействия и человеческих телесных практик. Что и было уже сделано П. Флоренским, Л. Карсавиным, М. Бахтиным, а затем развивалось М. Фуко, Ж. Делёзом и П. Бурдьё и др.
Коммуникация, по Ж. Делёзу, происходит на уровне событий и вне принудительной каузальности[142]. При этом имеет место скорее сцепление непричинных соответствий, образующих систему отголосков, повторений и резонансов, систему знаков. События – это не понятия, и приписываемая им противоречивость (присущая понятиям) есть результат их несовместимости. Первым теоретиком алогичных несовместимостей, полагает Делёз, был Лейбниц, ибо то, что он назвал совозможным и несовозможным, нельзя свести лишь к тождественному и противоречивому. Совозможность не предполагает в индивидуальном субъекте или монаде даже наличия предикатов. События первичны по отношению к предикатам. Два события совозможны, если серии, формирующиеся вокруг сингулярностей этих событий, распространяются во всех направлениях от одной к другой; и несовозможны, если серии расходятся в окрестности задающих их сингулярностей. Схождение и расхождение – всецело изначальные отношения, покрывающие изобильную область алогичных совместимостей и несовместимостей. Лейбниц применяет правило несовозможности для исключения одного события из другого. Но это несправедливо, когда мы рассматриваем чистые события и идеальную игру, где расхождения и дизъюнкция как таковые утверждаются. Речь идет об операции, согласно которой две вещи или два определения утверждаются благодаря их различию.
Здесь имеет место некая позитивная дистанция между различными элементами, которая связывает их вместе как раз в силу различия (как различие с врагом не отрицает меня, а утверждает, позволяя быть собранным перед ним). Теперь несовозможность – это средство коммуникации. В этом случае дизъюнкция не превращается в простую конъюнкцию. Делёз утверждает три различных типа синтеза: конвективный синтез (если… то), сопровождающий построение единичной серии; конъюнктивный синтез (и) – способ построения сходящихся серий; и дизъюнктивный синтез (или), распределяющий расходящиеся серии. Дизъюнкция действительно бывает синтезом тогда, когда расхождение и децентрирование, задаваемые дизъюнкцией, становятся объектами утверждения как такового. Вместо исключения некоторых предикатов вещи ради тождества ее понятия каждая вещь раскрывается навстречу бесконечным предикатам, через которые она проходит, утрачивая свой центр, то есть свою самотождественность в качестве понятия или Я.
На смену исключению предикатов приходит коммуникация событий. Делёз предлагает различать два способа утраты личной самотождественности, два способа развития противоречия. В глубине противоположности коммуницируют именно на основе бесконечного тождества, при этом тождество каждой из них нарушается и распадается. На Поверхности, где размещены только бесконечные события, каждое из них коммуницирует с другим благодаря позитивному характеру их дистанции и утвердительному характеру дизъюнкции. Всё происходит посредством резонанса несоизмеримостей – точки зрения с точкой зрения; смещения перспектив; дифференциации различий, а не через тождество противоположностей.
Такому пониманию «машины» коммуникации, ориентированной на постоянное сотворение нового, противостоит концепция координации практик габитусом П. Бурдьё[143]. Она подразумевает строго ограничивающую порождающую способность, ее пределы
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим отзывом от прочитанного(прослушанного)! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Уважаемые читатели, слушатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.
- 1. Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации.
- 2. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний.
- 3. Просьба отказаться от нецензурной лексики.
- 4. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.
Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор knigkindom.ru.
Оставить комментарий
-
 Гость Татьяна05 июль 08:35
Спасибо. Очень интересно ...
В плену Гора - Мария Зайцева
Гость Татьяна05 июль 08:35
Спасибо. Очень интересно ...
В плену Гора - Мария Зайцева
-
 Фарида02 июль 14:00
Замечательная книга!!! Спасибо автору за замечательные книги, до этого читала книгу"Странная", "Сосед", просто в восторге....
Одна ошибка - Татьяна Александровна Шумкова
Фарида02 июль 14:00
Замечательная книга!!! Спасибо автору за замечательные книги, до этого читала книгу"Странная", "Сосед", просто в восторге....
Одна ошибка - Татьяна Александровна Шумкова
-
 Гость Алина30 июнь 09:45
Книга интересная, как и большинство произведений Н. Свечина ( все не читала).. Не понравилось начало: Зачем постоянно...
Мертвый остров - Николай Свечин
Гость Алина30 июнь 09:45
Книга интересная, как и большинство произведений Н. Свечина ( все не читала).. Не понравилось начало: Зачем постоянно...
Мертвый остров - Николай Свечин