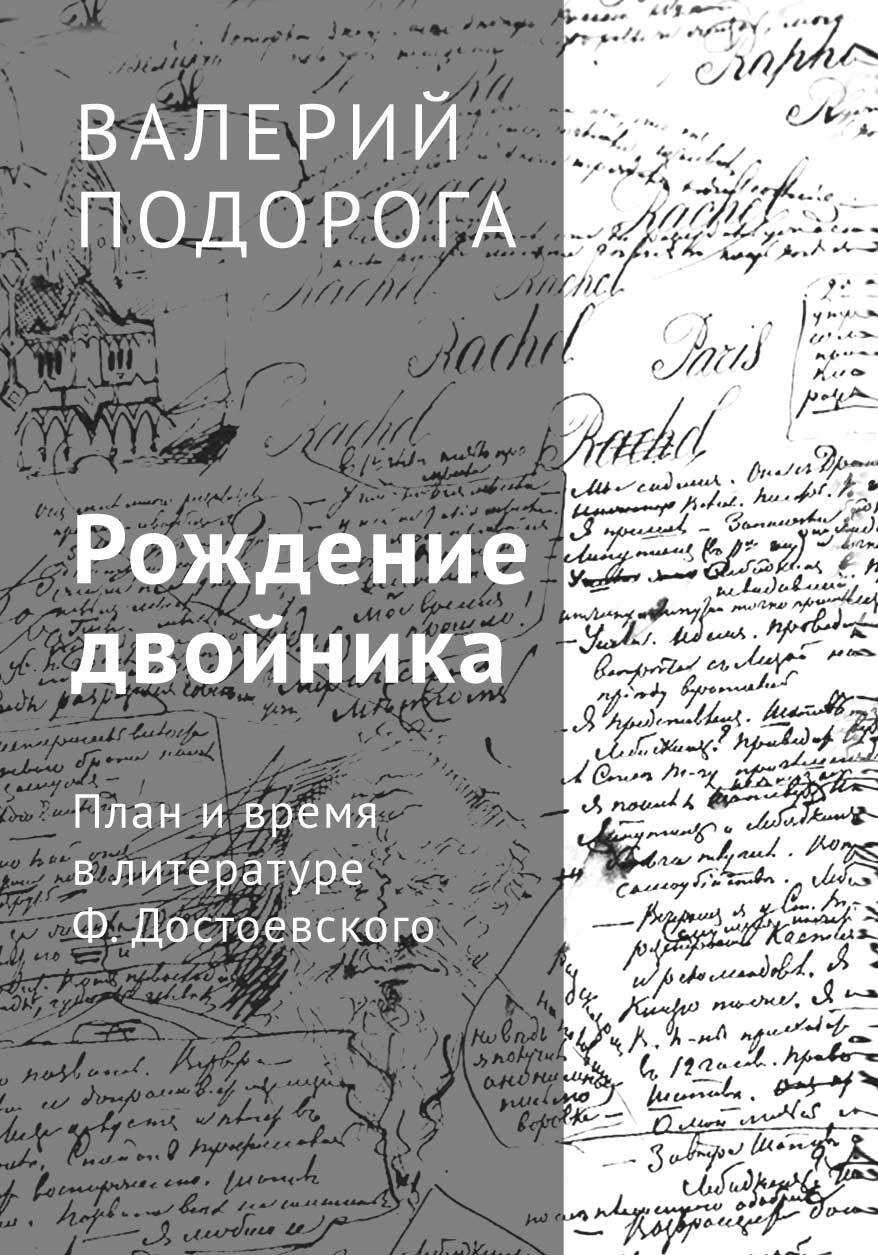Философская топология русской культуры - Сергей Александрович Азаренко
Книгу Философская топология русской культуры - Сергей Александрович Азаренко читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Эта принадлежность дает человеку привилегии, которых никогда не имеет чужестранец и раб»[135]. Индоевропейский корень leudh- «взрасти», относится как к растительному, так и к миру животных и человека. От этого корня происходят названия «свободный человек» в латинской и греческой культурах: лат. liberi «дети», слово, употребляемое только во множественном числе, букв. «выросшие вместе с тем, кто сам liber „свободен“, „законнорожденные“»; греч. eleuteros «свободный». От этого же корня происходят обозначения народа как «вместе взросших людей»: ст.– сл. людъ, др.– рус. людъ, людинъ, «человек». Индоевропейским корнем sue-//suo- со своеобразным двойственным значением «сам, себя» и «свои» отдельный человек характеризуется как именно отдельный, но одновременно как «подобный всем другим, таким же, как он, своим». Этот корень часто выступает в сочетании с различными детерминативами (суффиксами). Так, в греч.: sue-d- в слове idios «свой, собственный, личный, особый»; sue-t- в слове etes «свойственник, сородич, соратник»; sue-dh- в слове «обычай»; sue-dh-n- в слове «etnos» – группа людей, живущих вместе (по одним обычаям), народ.
Этот корень представлен и в славянских языках и обнаруживает здесь тот же самый путь развития, что и корень leudh-, и этот же корень в древнегреческом, то есть связь концептов «сам; отдельный, особый человек; индивид» – «народ» – «свободный человек». Ср. рус.: свой, свои; особь из o-s(u)ob-ь и свобода из s(u)obo-d-a. Исследование Бенвениста показывает, что первоначально «свои люди, свой народ, круг своих» – это одновременно и «место, где господствуют законы, хорошие установления и порядок». Как и в других индоевропейских культурах, концепт «чужой» и соответствующее слово в русском языке относятся к «не своему», «постороннему» и «далекому» по отношению к народу, обычаю или нравам.
Ю. Степанов обращает внимание на то, что в русской культуре, в отличие от западноевропейских, понятие «чужого» связано с понятием «чудо». Этимология слова «чужой» определенно не установлена. Однако несомненно то, что в русской культуре значение этого слова близко к концепту «чудо» как «явлению, не объяснимому естественным порядком вещей», а в некоторых формах оба концепта прямо налагаются друг на друга, в частности, прилагательное чудной — по форме происходящее от корня чуд, а по значению почти совпадающее с чужой, чужий – «странный, необычный», и глагол чужатися, который, напротив, по форме несомненно производный от чужии, а по значению целиком совпадает с глаголом чудитися – «удивляться, поражаться», производным от чудо. У того и другого глагола имеются еще и вторые, различающиеся значения: у чужатися — «свирепствовать», а у чудитися — «быть восхваляемым, прославляемым» (И. Срезневский).
Каким же образом конституируется отношение к «чуду», «чужому» в русской культуре? Отношение к Чужому (Другому) здесь имеет характер «ответственного поступка» (Бахтин) или «деятельной смыслонаправленности» (Левинас), которая возводит Другое в абсолют. Это отношение предполагает некоторый жертвенный порыв, особого рода вне-себя-бытие-к-другому.
Эгоцентризм тяготеет к тому, чтобы вобрать всякое Другое в тождественное, загнать его в определенность однозначности и тем самым свести друговость на нет. Однако возможна иная направленность, которая так же начинается с самотождественности, в Я, но при этом отрицается господствующая над Я неодолимая смыслонаправленность истории, которая обессмысливает сам факт движения, ибо Другое тогда оказывается вписанным в Тождественное, подобно тому, как конец – в начало. «То, что я с моего единственного в бытии места хотя бы только вижу, знаю другого, думаю о нем, не забываю его, то, что и для меня он есть,– это только я могу для него сделать в данный момент во всем бытии, это есть действие, восполняющее его бытие, абсолютно прибыльное и новое и только для меня возможное»[136]. Свободная же направленность из Тождественного к Другому реализует себя в таком этическом поступке, как жертвенное дело. Православное жертвенное отношение к Другому или философия «Общего дела» Н. Фёдорова в предлагаемом контексте получают новое осмысление. Продуманный до конца этический поступок (жертвенный порыв) есть такое дело, при котором движение Тождественного к Другому никогда не возвращается к Тождественному. В этом случае поступок предполагает совершенную щедрость движения Тождественного к Другому.
Следовательно, оно безучастно к благодарности Другого. Ведь благодарность была бы как раз возвратом движения к исходной точке. Жертвенность несопоставима с игрой, приводящей к затратам. Оно не есть начинание в чистый убыток себе. Жертвенность есть такая связь с Другим, что он оказывается достигнут, но не выглядит затронутым. Будучи абсолютной смыслонаправленностью на Другое, жертвенность возможна лишь при условии терпения, что в предельном выражении означает для совершающего его отречение от того, чтобы стать современником завершения своего дела. Здесь действие совершается без ожидания вступить на Землю Обетованную. То будущее, ради которого совершается такое действие, сразу же полагается как безразличное к своей смерти. Жертвенность есть бытие к тому, что находится по ту сторону смерти. Терпение заключается не в том, чтобы обмануть свою щедрость, дав себе время личного бессмертия. Отречься от того, чтобы быть современником торжества своего дела, – значит предвидеть его торжество «во времени без меня». А отслеживать этот мир без себя за горизонтом своего времени – это эсхатология без упования о себе или же освобождение от своего времени. Быть для времени, которое остается без меня, для времени после моего времени, значит, осуществить переход во время Другого. Таким образом, жертвенность в православии открывает доступ к подлинному отношению к Другому, а следовательно, к истинному диалогу с ним.
Русское слово восходит к индоевропейскому корню kleu-, иногда с распространением – s-. Данный корень представлен во всех индоевропейских языках: греч. к kleu «слава», лат. (архаич.) сlueo – «слышать, слушать», класс.– «слыть, считаться», литов. klausa – «слух» и т.д. Из предлагаемого перечня слов видно, что в значении этого корня заложено не только говорение, но и слушание, а значит, говорящий и слушающий, и потому, соответственно, место, в котором они располагаются. Ю. Степанов подчеркивает, что в современной европейской культуре в слове была утеряна «цельность ситуации» и доказывает, что в русском слове она сохраняется, находя выражение в глаголах славить, слышать, слыть. В европейской исследовательской традиции до недавнего времени была укоренена линейная модель общения, основанная на рационально толкуемой связи говорящего со слушающим.
Классическая линейная модель коммуникативного акта подразумевает адекватную передачу информации от адресанта к адресату. В соответствии с этой моделью адресант кодирует некоторую информацию знаковыми средствами той знаковой системы, которая используется в данной форме коммуникации. Для усвоения информации от адресата требуется обратная процедура представления содержания – декодирование. Линейная модель коммуникации обладает по крайней мере тремя существенными недостатками: во-первых, она исходит
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим отзывом от прочитанного(прослушанного)! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Уважаемые читатели, слушатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.
- 1. Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации.
- 2. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний.
- 3. Просьба отказаться от нецензурной лексики.
- 4. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.
Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор knigkindom.ru.
Оставить комментарий
-
 Гость Татьяна05 июль 08:35
Спасибо. Очень интересно ...
В плену Гора - Мария Зайцева
Гость Татьяна05 июль 08:35
Спасибо. Очень интересно ...
В плену Гора - Мария Зайцева
-
 Фарида02 июль 14:00
Замечательная книга!!! Спасибо автору за замечательные книги, до этого читала книгу"Странная", "Сосед", просто в восторге....
Одна ошибка - Татьяна Александровна Шумкова
Фарида02 июль 14:00
Замечательная книга!!! Спасибо автору за замечательные книги, до этого читала книгу"Странная", "Сосед", просто в восторге....
Одна ошибка - Татьяна Александровна Шумкова
-
 Гость Алина30 июнь 09:45
Книга интересная, как и большинство произведений Н. Свечина ( все не читала).. Не понравилось начало: Зачем постоянно...
Мертвый остров - Николай Свечин
Гость Алина30 июнь 09:45
Книга интересная, как и большинство произведений Н. Свечина ( все не читала).. Не понравилось начало: Зачем постоянно...
Мертвый остров - Николай Свечин