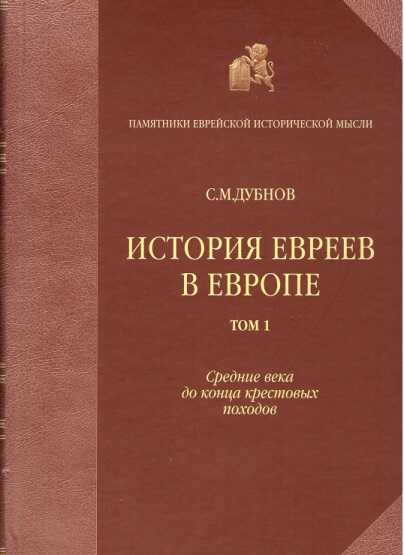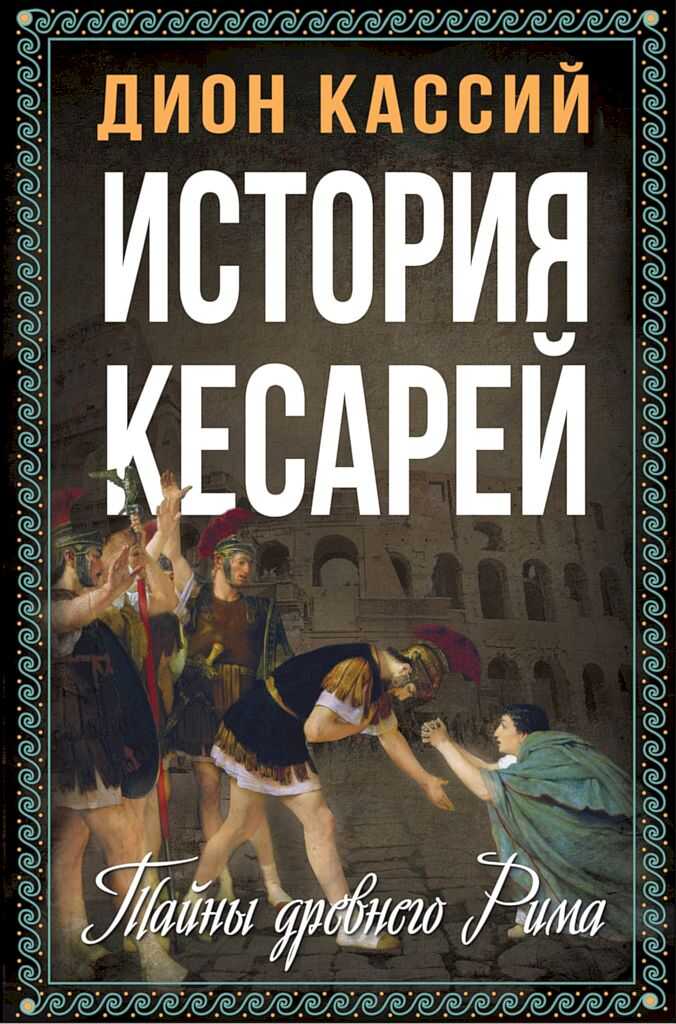История частной жизни. Том 5: От I Мировой войны до конца XX века - Филипп Арьес
Книгу История частной жизни. Том 5: От I Мировой войны до конца XX века - Филипп Арьес читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
После II Мировой войны практика исповеди сошла на нет. В 1952 году 15% католиков заявляли о том, что исповедуются раз в месяц, а 3%— что никогда (исследование IFOP, Французского института общественного мнения); в 1974 году, по данным SOFRES, Французского социологического общества, соответственно 1% и 54%. Время, которое священники отводят исповеди, постоянно сокращается. В епархии Кемпера «исповедальных дней» в 1934 году было 34, в 1954-м — 24, в 1960-м–13, в 1974-м — 7. Молодые священники, которых становилось все меньше и которых нагружали самыми разными поручениями, не горели желанием заниматься делом, которое многим казалось трудным и «неудобным». Устная исповедь, «индивидуализированный инструмент пристрастного изучения совести», по выражению Марселя Мосса, была одной из основ — возможно, самой главной — церковной власти. Власти символической, потому что она предполагала сохранность тайны и не применяла физического наказания, но грозной и опасной, потому что обладающий ею имел право судить и отпускать или не отпускать грехи, а обжаловать или подать апелляцию было нельзя — разве что на том свете. Ограничение власти клерикалов означало бы запуск процесса освобождения этики от религии и утверждение светского начала в недрах самих церковных структур, а также, по утверждению фундаменталистов, подрыв традиционных основ экономики спасения души.
Теология принимает во внимание понятие состояния
Таинство исповеди потеряло былую популярность и значимость, и его историю, связанную, как нам представляется, с постепенным ослаблением представления о греховности человеческой природы, еще предстоит написать. В нашем распоряжении находятся около пяти сотен писем и записок, адресованных кюре из Арса, который исповедовал по семнадцать часов в день летом и по тринадцать часов зимой (в первую очередь, однако, люди просили совета, а не хотели исповедаться). С этого времени (Жан-Мари Вианне жил с 1786 по 1859 год) теология начинает принимать во внимание понятие состояния. В работе Тома Гуссе «Моральная теология», вышедшей в свет в 1845 году, читаем: «Наказание, налагаемое исповедником на грешника, должно быть пропорционально тяжести его вины; следует принимать во внимание его состояние и настроение». Одна из глав второго тома озаглавлена так: «Обязанности исповедника по отношению к тем, кто недостаточно сведущ в вопросах религиозных истин, или к тем, кто пребывает в неведении относительно своего состояния»[152]. Речь идет о том, что следует принимать во внимание то, что мы сегодня назвали бы социальным положением грешника, роль общества в его греховном поведении. Напрашивается сравнение с историей одного психического заболевания. Ранее мы видели, что этиология душевных болезней, основанная прежде всего на онтогенезе, бытии больных, эволюционировала в сторону их социального происхождения (одним из «отцов» этого направления был Фрейд) и к 1960-м годам неминуемо пришла к парадоксам и эксцессам антипсихиатрии[153]. Что бы ни становилось объектом изучения — грех, невроз, правонарушение или преступление, — развитие дискурса начиная со второй половины XIX века во всех этих случаях сопоставимо: при определении меры «ответственности» грешника, сумасшедшего или преступника следует принимать во внимание его статус. Иными словами, понятие интердискурсивности, разработанное Мишелем Фуко, оказалось плодотворным.
На понятие состояния проливает свет история сестры Мари-Зоэ в том виде, в каком она излагает ее в письме к кюре из Арса (впрочем, оставшемся без ответа). Родители, слишком бедные, чтобы содержать дочь, отдали ее на воспитание дяде, который лишил девочку невинности, когда ей было четырнадцать лет. После двух лет в пансионе она возвращается к дяде, и сексуальные отношения с ним продолжаются. Она стала послушницей, не имея к тому призвания, и ее соблазнил священник. «Наши сердца были связаны какой-то опасной дружбой, — пишет девушка, — когда мы виделись, мы обнимались, целовались и делали прочие такие вещи. Это длилось три года». Когда эти отношения закончились, Мари-Зоэ сохранила свои «пагубные привычки» и в возрасте двадцати девяти лет написала письмо знаменитому исповеднику, в котором говорила, что боится, что попадет в ад. Отвращение к монастырскому уставу вызывало у нее чувство вины, а не протест. «Она судит себя, — пишет Филипп Бутри, — с позиций учебников по моральной теологии: те же приемы изложения, тот же лексикон». Согласно этой науке, существуют три категории грешников: окказиональные грешники — те, кто совершает грех случайно, грешники-рецидивисты — те, кто грешит повторно, и привычные грешники — грешащие регулярно. Мари-Зоэ сначала была окказиональной грешницей. Слово «случай» дважды встречается в ее письме. «Родители забрали меня к себе, там, по крайней мере, мне не подворачивался случай». И дальше: «Когда я прибыла в монастырь, там меня опять ждал случай: священник проникся ко мне; страсти переполняли меня, поэтому я снова уступила». Повторное попадание в дом к дяде и монастырь сделали ее рецидивисткой, а мастурбация превратила девушку в привычную грешницу. «Я думаю, что гублю себя, пребывая в монастыре без призвания». Единственное, о чем она просит, это смена ее состояния. «Огонь сладострастия» мог быть потушен лишь супружеской жизнью.
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим отзывом от прочитанного(прослушанного)! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Уважаемые читатели, слушатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.
- 1. Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации.
- 2. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний.
- 3. Просьба отказаться от нецензурной лексики.
- 4. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.
Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор knigkindom.ru.
Оставить комментарий
-
 Илона13 январь 14:23
Книга удивительная, читается легко, захватывающе!!!! А интрига раскрывается только на последних страницай. Ну семейка Адамасов...
Тайна семьи Адамос - Алиса Рублева
Илона13 январь 14:23
Книга удивительная, читается легко, захватывающе!!!! А интрига раскрывается только на последних страницай. Ну семейка Адамасов...
Тайна семьи Адамос - Алиса Рублева
-
 Гость Елена13 январь 10:21
Прочитала все шесть книг на одном дыхании. Очень жаль, что больше произведений этого автора не нашла. ...
Опасное желание - Кара Эллиот
Гость Елена13 январь 10:21
Прочитала все шесть книг на одном дыхании. Очень жаль, что больше произведений этого автора не нашла. ...
Опасное желание - Кара Эллиот
-
 Яков О. (Самара)13 январь 08:41
Любая книга – это разговор автора с читателем. Разговор, который ведёт со своим читателем Александр Донских, всегда о главном, и...
Вижу сердцем - Александр Сергеевич Донских
Яков О. (Самара)13 январь 08:41
Любая книга – это разговор автора с читателем. Разговор, который ведёт со своим читателем Александр Донских, всегда о главном, и...
Вижу сердцем - Александр Сергеевич Донских