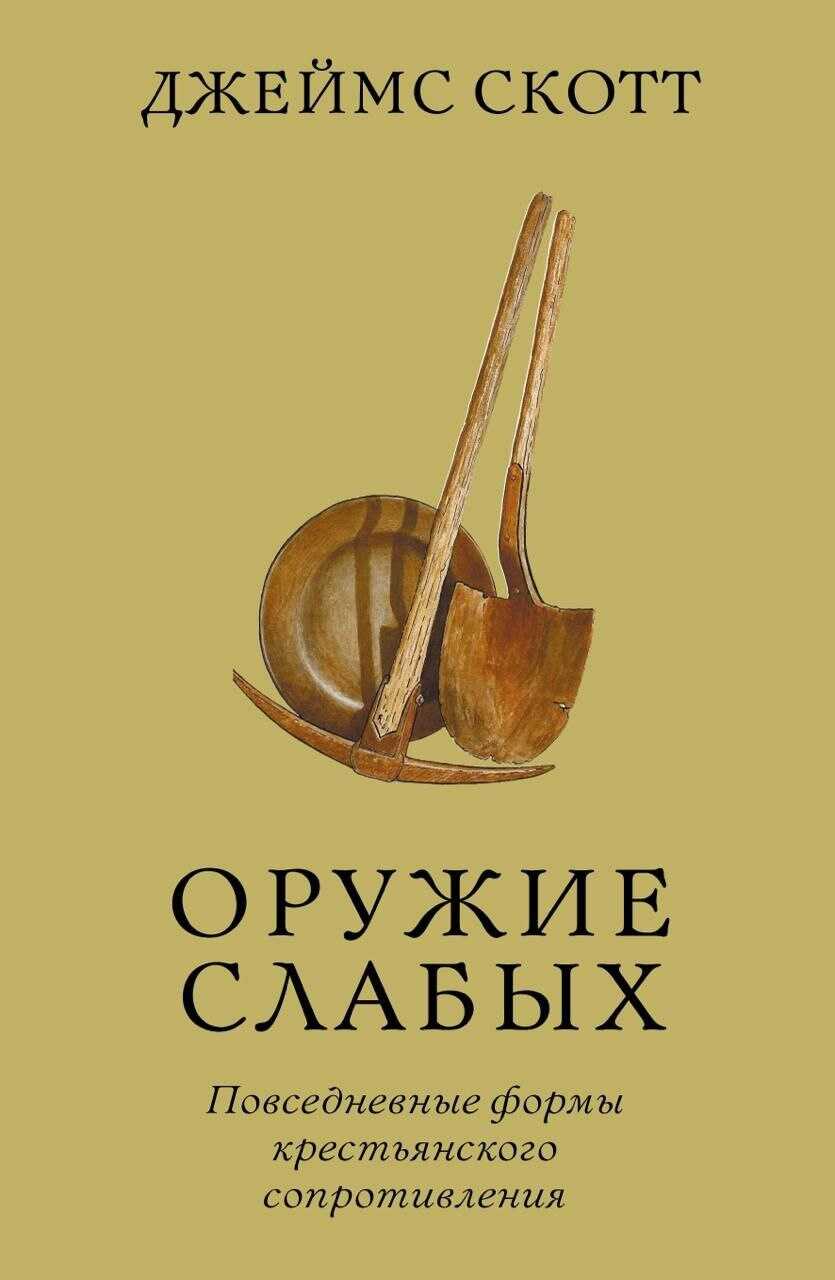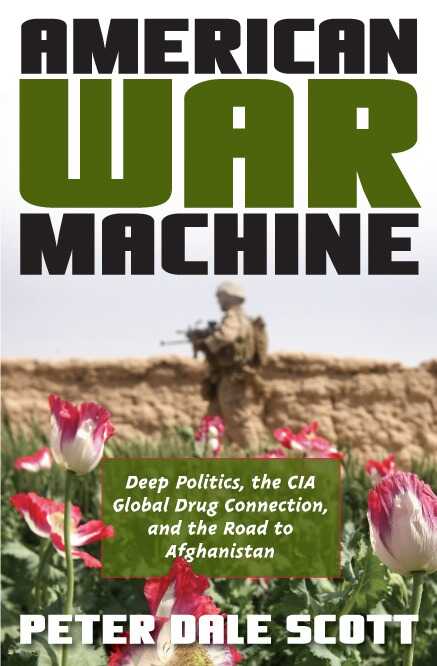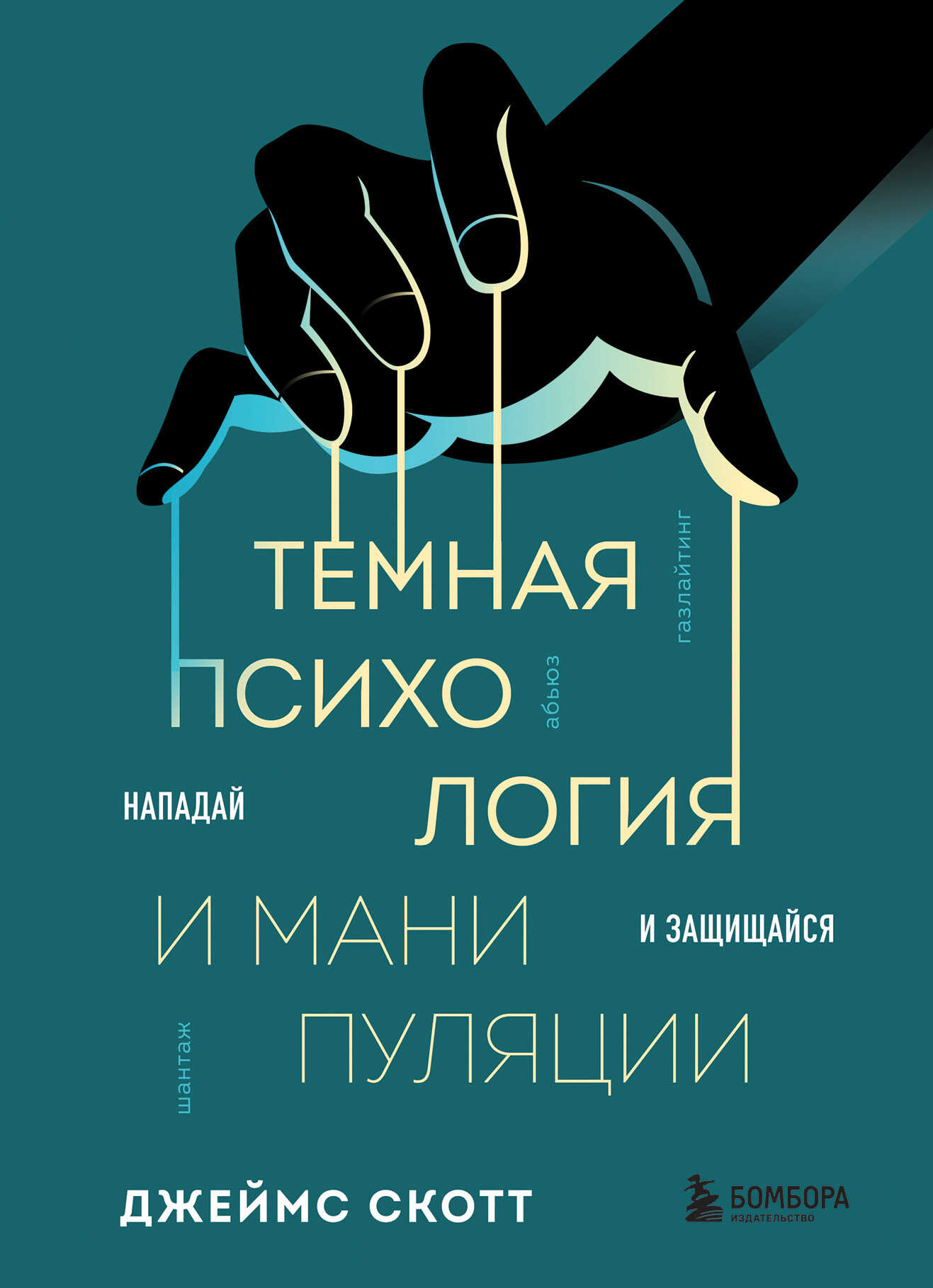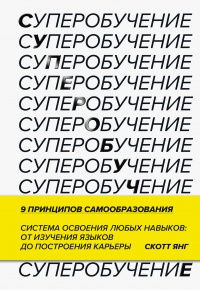Оружие слабых. Повседневные формы крестьянского сопротивления - Джеймс С. Скотт
Книгу Оружие слабых. Повседневные формы крестьянского сопротивления - Джеймс С. Скотт читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
По мнению Мура, относить проблематику, скрывавшуюся за почти состоявшейся революцией в Германии, к вопросам «хлеба насущного» и мелочам наподобие достойного обращения, значило бы упускать её значимость[620]. Для рабочего класса, прижатого к стене, это были не просто принципиальные материальные вопросы – они ещё и подкреплялись гневом, возникавшим из ощущения, что постановка таких вопросов легитимна. Справедливым, по сути, будет следующее утверждение: упорное стремление к таким незначительным целям отчасти возникло потому, что они представлялись уместными в нормативных рамках существующего порядка. Требования немецкого рабочего класса в тот период были ненамного более амбициозными или далеко идущими, нежели требования бедняков Седаки. Причина, по которой в первом случае революционная ситуация возобладала, а во втором – нет, сопряжена с множеством других факторов, однако не имеет ничего общего с наличием или отсутствием революционного классового сознания per se [как такового – лат.].
Источником приводимых Муром свидетельств о запросах российского рабочего класса непосредственно перед Октябрьской революцией (а также после Февральской революции) выступают самостоятельные требования фабрично-заводских комитетов, сформированных по всей территории европейской части страны[621]. Данные требования вновь демонстрируют то, что Ленин назвал бы реформистским, тред-юнионистским сознанием. Наиболее популярным из них был восьмичасовой рабочий день, а к другим требованиям относились отмена сдельной оплаты труда, введение минимальной заработной платы, надбавок и выходных пособий в случае увольнения. На рабочих местах трудящиеся настаивали на вежливости со стороны начальства, отмене произвольных штрафов, вычитаемых из их зарплат, обеспечении условий для питания и личной гигиены, а также на обеспечении инвентаря работодателем, а не самими рабочими. Наиболее радикальным их требованием, похоже, была отмена детского труда и дискриминации по половому признаку, однако они полностью поддерживали дифференцированную оплату труда, основанную на уровне компетенций и опыта. Едва ли подобные требования сами по себе предполагали революцию[622] – как следует из итога их анализа, подведенного Муром, «вся направленность этих требований… заключалась в улучшении, а не в изменении условий труда… Вновь перед нами ситуация, когда представление рабочих о правильном обществе… предполагает сохранение существующего порядка при смягчении или устранении наиболее неприятных его особенностей»[623].
Приведенные весомые свидетельства можно дополнить и другими примерами наподобие требований крестьянства штата Морелос во время Мексиканской революции и cahiers de doleances [наказов Генеральным Штатам 1789 года] во время Французской революции[624]. Смысл представления свидетельств требований рабочего класса заключается именно в том, что с точки зрения марксистской теории революционное сознание считается возможным только в рамках этого класса – и никакого иного. Однако даже здесь мы обнаруживаем не только, по большому счету, отсутствие этого сознания, но и вполне неплохую совместимость мелких реформистских требований с революционным действием. Авангардная революционная партия может быть нужна для того, чтобы произошла революция, но её необходимость не возникает из потребности в идеологическом инструктировании подчиненных классов и повышении их сознательности[625]. Революционный конфликт – в той мере, в какой он касается рядовых его участников, – обычно возникает в рамках уже существующей гегемонии, а необычными зачастую оказываются лишь используемые средства. Последнее наблюдение применимо к крестьянским движениям по меньшей мере в той же степени, что и к пролетарским.
Как совершенно корректно отмечает Хобсбаум, «революция может быть де-факто совершена крестьянами, которые не отрицают легитимность существующей структуры власти, закона, государства или даже землевладельцев»[626]. В данном случае можно привести пример крестьянства Морелоса, чьи намерения попросту заключались в том, чтобы вернуть общинные земли, отобранные у них сахарными асьендами, а не разрушить саму систему асьенд, не говоря уже о преобразовании мексиканского государства. Однако их настойчивое упорство в возвращении своих земель способствовало обоим этим более масштабным последствиям. Мелкие, реформистские, «идеологические» цели могут складываться вместе вплоть до того момента, когда их достижение начнет подразумевать революцию, точно так же, как слабые и нескоординированные акты мелкого сопротивления могут сложиться в ситуацию, когда они станут подвергать опасности государственные структуры.
Разумеется, по-прежнему возможно утверждать, что для преобразования множества восстаний в революцию, которая захватит власть и преобразует государство, имеется потенциальная необходимость в той или иной разновидности внешнего руководства наподобие какой-нибудь политической партии или интеллигенции. Здесь нет места для рассмотрения этого частного вопроса, хотя можно сделать такую оговорку: если принять данную аргументацию, то ответ на вопрос о том, считать ли подчиненные классы беспомощными без радикальной интеллигенции или же радикальную интеллигенцию беспомощной без восставших масс, в значительной степени оказывается делом вкуса. Между тем можно с определенностью утверждать, что ни «революционное сознание», ни усложненная идеология в том смысле, как обычно принято понимать эти термины, не являются необходимыми элементами для формирования революционного кризиса, которым такие лидеры могли бы в дальнейшем, предположительно, воспользоваться.
Кто потрясает гегемонию?
Подводя предварительный итог, можно утверждать, что спонтанные идеи промышленных рабочих дофабричного и фабричного типа предприятий, а также крестьян, участвовавших в современных революциях, были преимущественно обращены в прошлое. Всё это были попытки возродить нарушенный общественный договор, чаще всего направленные на то, чтобы устранить недовольства, специфические и конкретные для того или иного рода занятости[627].
Можно ли говорить о том, что в Седаке происходит нарушение некоего общественного договора? Полагаю, что да, при соблюдении ряда условий: если общественный договор понимается как набор практик и связанных с ними норм, если принять, что интерпретация этого договора заметно отличается в зависимости от того, какой класс за неё берётся, и если уяснить, что бедные в значительной степени создали и признали собственную версию этого договора только в контексте его нарушения. Промежуточными агентами этого нарушения почти исключительно выступали крупные земледельцы, которые стремились к увеличению своих доходов, хотя возможность для формирования новых производственных отношений была обеспечена созданной государством программой ирригации. Эти капиталисты-неофиты разрывали арендные соглашения, повышали арендную плату, переходили к долгосрочным схемам аренды земли и прибегали к помощи техники. Именно они последовательно отбрасывали такие обычаи, как раздача закята, благотворительность, предоставление займов и организация больших пиршеств. Именно они своими действиями практически аннулировали то скромное «обобществление» доходов от выращивания риса, которое когда-то служило их интересам. Именно они всё в большей степени монополизировали резервы государственных субсидий и ресурсов, а также политические институты деревенской жизни.
Таким образом, богатые жители Седаки оказались пусть и в могущественном, но аномальном положении. Необходимой предпосылкой их обогащения стал систематический демонтаж тех практик, которые прежде наделяли рациональным основанием их богатство, статус и лидерство. Ценой, которую они заплатили за своё экономическое господство, стали их социальное положение и социальный контроль над более бедными односельчанами – именно такую цену подразумевает тот факт, что
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим отзывом от прочитанного(прослушанного)! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Уважаемые читатели, слушатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.
- 1. Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации.
- 2. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний.
- 3. Просьба отказаться от нецензурной лексики.
- 4. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.
Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор knigkindom.ru.
Оставить комментарий
-
 Гость Анастасия28 июль 20:09
Анастасия, спасибо. Спасибо за этот мир. Спасибо за эмоции, за ночи без сна за книгой. Спасибо. ...
Крайние земли - Анастасия Владимировна Лик
Гость Анастасия28 июль 20:09
Анастасия, спасибо. Спасибо за этот мир. Спасибо за эмоции, за ночи без сна за книгой. Спасибо. ...
Крайние земли - Анастасия Владимировна Лик
-
 Гость Светлана26 июль 20:11
Очень понравилась история)) Необычная, интересная, с красивым описанием природы, замков и башен, Очень переживала за счастье...
Ледяной венец. Брак по принуждению - Ульяна Туманова
Гость Светлана26 июль 20:11
Очень понравилась история)) Необычная, интересная, с красивым описанием природы, замков и башен, Очень переживала за счастье...
Ледяной венец. Брак по принуждению - Ульяна Туманова
-
 Гость Диана26 июль 16:40
Автор большое спасибо за Ваше творчество, желаю дальнейших успехов. Книга затягивает, читаешь с удовольствием и легко. Мне очень...
Королевство серебряного пламени - Сара Маас
Гость Диана26 июль 16:40
Автор большое спасибо за Ваше творчество, желаю дальнейших успехов. Книга затягивает, читаешь с удовольствием и легко. Мне очень...
Королевство серебряного пламени - Сара Маас