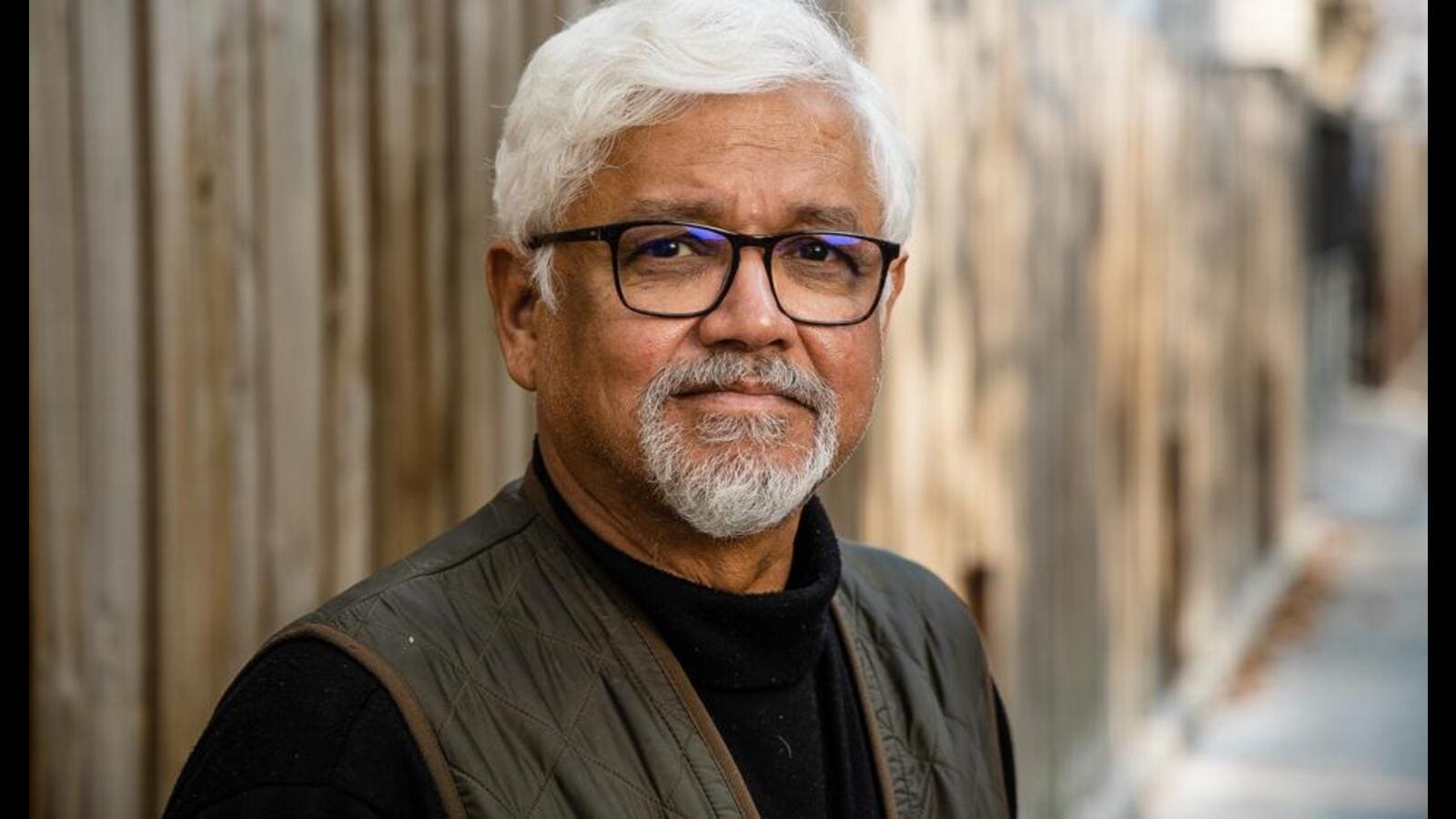старшей школы в гостиной – которая, учитывая приподнятое положение веранды и входной двери, была как бы утопленной и начиналась более-менее прямо от порога, где еще только в нее спускалась маленькая лесенка, а высокая – на второй этаж. В архитектурном плане стиль дома называется «приподнятое ранчо», как и у большинства других старых домов на нашей улице, и в нем была еще одна лестница, из коридора второго этажа в гараж, который поддерживал часть второго этажа – гараж поддерживал, в структурном плане, он – неотъемлемая часть дома, чем и характерен стиль «приподнятое ранчо». Когда отец вошел, двое валялись на диване-давенпорте, закинув грязные ноги на его особый журнальный столик, а на ковре валялись пивные банки и упаковки «Тако Белл» – причем банки из-под отцовского пива, которое он закупал оптом два раза в год, складировал в подсобке и, как правило, пил, может, две в неделю, – и мы сидели в хлам, смотрели «Искателей» по телеку, а один слушал Deep Purple в специальных отцовских стереонаушниках для классической музыки, а особую дубовую или мраморную столешницу заляпали большими кольцами конденсата от пивных банок, потому что мы выкрутили отопление намного выше, чем он, как правило, разрешал из соображений сбережения энергии и расходов, а второй приятель со мной на давенпорте как раз глубоко затягивался из бонга – он славился своими мощными затяжками. Плюс вся гостиная провоняла. Когда, в этом воспоминании, я внезапно услышал его отчетливые шаги на широкой деревянной веранде и шорох ключей в замке, и всего через секунду отец внезапно вошел с волной очень холодного ясного воздуха, со шляпой и чемоданом, – меня парализовало от шока капитально спалившегося пацана, и я сидел парализованный, не мог ничего сделать, но видел каждый кадр, как он входит, с ужасными фокусом и ясностью, – и он стоял на краю пары ступенек в гостиную, снимая шляпу своим фирменным жестом, когда задействовал и голову, и руку, обозревая эту сцену и нас троих, – он никогда не скрывал, что ему не особенно нравятся мои старые друзья из старшей школы, те же самые, с кем я поехал гулять, когда у мамы сняли крышку бензобака и слили бензин, и, когда мы нашли машину, ни у кого из нас не осталось денег, и мне пришлось звонить отцу, а ему пришлось ехать на поезде после работы, чтобы оплатить бензин, и я вернул Ле Авто маме и Джойс, которая была совладелицей автомобиля и пользовалась по работе для книжного, – а мы, все трое, развалились на диване совершенно в хлам и лежали, парализованные, один – в старой заношенной футболке, где даже поперек груди говорилось «ИДИ В ЖОПУ», второй в шоке подавился исполинской затяжкой, так что клуб дыма покатился через гостиную к отцу, – короче говоря, мое воспоминание – худшее подтверждение худшего стереотипа о поколенческом разрыве и родительском отвращении к своим испорченным детям-охламонам, и отец медленно поставил сумку и чемодан и просто стоял, без выражения на лице, и, казалось, очень долго ничего не говорил, а потом медленно чуть поднял руку, поднял взгляд и сказал:
«Взгляните на мои великие деянья!» [75] – потом опять взял сумку и молча поднялся по лестнице, зашел в бывшую родительскую спальню и закрыл дверь. Не хлопнул, но было слышно, как дверь закрылась очень твердо. Воспоминание, до этого ужасно четкое и подробное, затем, как ни странно, совершенно обрывается, будто пленка кончилась, и я не знаю, что случилось потом, например как я выпроводил пацанов и наспех постарался прибраться и прикрутить термостат до двадцати градусов, хотя все же помню, что чувствовал себя как полное говно – не то что меня
«спалили» или что будут неприятности, сколько просто по-детски, как избалованный эгоистичный ребенок, и я представлял, как для него выглядел, когда сидел в этом свинарнике посреди его дома, в хлам, с грязными ногами на заляпанном журнальном столике из антикварного магазина в Рокфорде, на который они с матерью копили, когда еще были молодыми и бедными, и который он очень ценил, и все время протирал лимонным маслом, и говорил, что просит только об одном – чтобы я, пожалуйста, не клал на него ноги и пользовался подстаканниками, – я словно на секунду-другую увидел, каким наверняка выглядел для него, когда он стоял и смотрел, как мы вот так издеваемся над его гостиной. Картина не из приятных, а хуже всего, что он не орал и не пилил, просто стоял с усталым видом, будто стыдясь за нас обоих, – и помню, на секунду-другую я даже чувствовал то же, что наверняка чувствовал он, и на мгновение увидел себя его глазами, отчего все стало намного, намного хуже, чем если бы он бесился или орал, чего он не делал никогда, даже когда мы потом оказались наедине в той же комнате – хотя не помню, когда это было, то есть, например, сбежал ли я из дома, когда прибрался, или остался, чтобы поговорить по душам. Сам не знаю, что сделал. Я даже не понял, что он сказал, хотя, очевидно, понял, что это сарказм и что в чем-то он винит себя или посмеивается над собой из-за своего «деяния», которое только что разбросало по полу упаковки и пакеты «Тако Белл» вместо того, чтобы встать и пройти каких-то там восемь шагов, чтобы их выкинуть. Хотя позже я случайно наткнулся на стих, который, как оказалось, он цитировал, в каком-то внезапном контексте в ЦПО Индианаполиса, и у меня чуть глаза на лоб не вылезли, потому что я даже не знал, что это стих – и к тому же знаменитый, от того же британского поэта, который вроде как написал «Франкенштейна». А я даже и не знал, что отец читал британскую поэзию, не то что мог цитировать из нее в расстроенных чувствах. Короче говоря, он наверняка был намного глубже, чем я думал, и не припомню, чтобы я осознавал, как мало на самом деле о нем знаю, пока он не скончался и уже не стало поздно. Я так понимаю, и это сожаление тоже типичное.
Так или иначе, это ужасное воспоминание о том, как я смотрю с дивана и вижу себя его глазами, и о его грустном, утонченном способе выразить, как ему грустно и отвратительно это видеть, – теперь оно как бы подытоживает для меня весь период, когда я о нем задумываюсь. Еще я помню имена обоих бывших друзей из того поганого дня, но, очевидно, сейчас это не к месту.
Все
 Римма20 сентябрь 12:27
Много ненужных пояснений и отступлений. Весь сюжет теряет свою привлекательность. Героиня иногда так тупит, что читать не...
Хозяйка приюта для перевертышей и полукровок - Елена Кутукова
Римма20 сентябрь 12:27
Много ненужных пояснений и отступлений. Весь сюжет теряет свою привлекательность. Героиня иногда так тупит, что читать не...
Хозяйка приюта для перевертышей и полукровок - Елена Кутукова
 Гость Ёжик17 сентябрь 22:17
Мне понравилось! Короткая симпатичная история любви, достойные герои, умные, красивые, притягательные. Надоели уже туповатые...
Босс. Служебное искушение - Софья Феллер
Гость Ёжик17 сентябрь 22:17
Мне понравилось! Короткая симпатичная история любви, достойные герои, умные, красивые, притягательные. Надоели уже туповатые...
Босс. Служебное искушение - Софья Феллер
 Римма15 сентябрь 19:15
Господи... Три класса образования. Моя восьмилетняя внучка пишет грамотнее....
Красавица для Монстра - Слава Гор
Римма15 сентябрь 19:15
Господи... Три класса образования. Моя восьмилетняя внучка пишет грамотнее....
Красавица для Монстра - Слава Гор