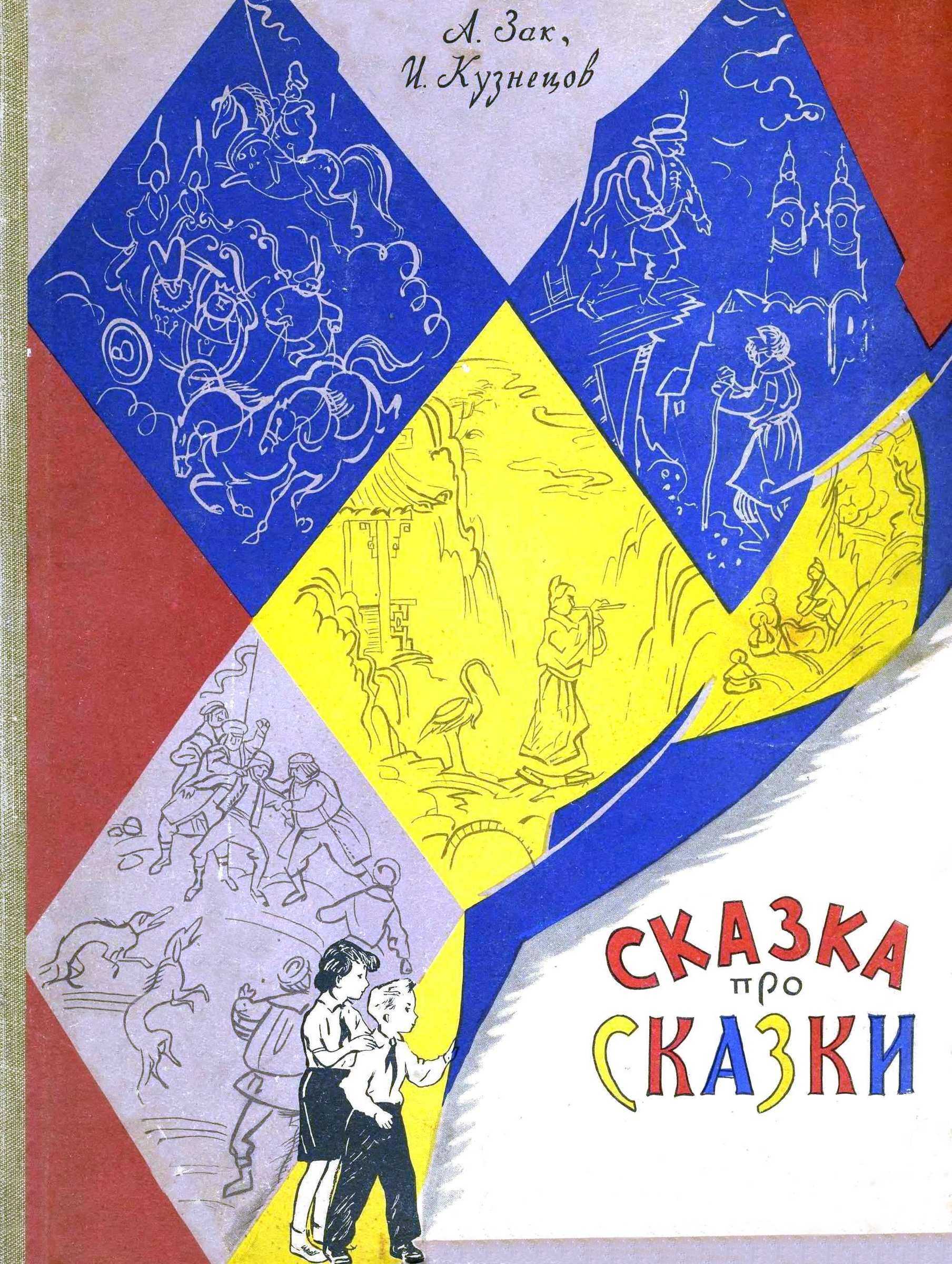Сергей Довлатов: время, место, судьба - Игорь Николаевич Сухих
Книгу Сергей Довлатов: время, место, судьба - Игорь Николаевич Сухих читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
«Мы» автора «Большой элегии Джону Донну», безусловно, включает и «я» сочинителя «Невидимой книги». Причем на одном из первых мест.
«Удивительно, что этот бывалый, все повидавший в жизни, прошедший огонь, воду и медные трубы человек был самым „литературным“ из всех тех сотен литераторов, что довелось мне повстречать в жизни. Часами он мог говорить о литературе; вывести его из себя, довести до ярости, до отчаяния мог только литературный спор. Почти дословно помню, как Сергей во время какого-то разговора разгорячился и закричал: „Ни одной минуты жизни не стану тратить на починку фановой трубы или утюга, потому что у меня полно литературных дел, и чтение – это тоже мое литературное дело!“» (Е. Рейн)[81].
Одна из частей, четвертая, книги Юрия Олеши «Ни дня без строчки» называется «Золотая полка». «Золотая полка – это та, которая заводится для любимых книг. Я давно мечтаю об этом – завести золотую полку. Эта та полка, на которую ставятся только любимые книги. В мечтах мне рисуется именно полка – никак не шкаф, а именно одна полка, один, если так можно выразиться, этаж шкафа»[82].
На золотой полке стоит не абсолютно лучшее (эти «абсолютно» – для историка литературы), но безусловно свое. Эти книги – «вещество существования», без которого невозможен настоящий писатель.
Про довлатовскую полку известно уже довольно много. От воспоминателей и интервьюеров. Но больше от него самого.
Очевидна иерархия литератур. «Для меня, 20-летнего, было несомненно, что на первом месте стоит американская проза, а за ней русская, которая мне все-таки нравилась и всегда была дорога, а сейчас (1988 год. – И. С.) стала ближе, когда я оказался на Западе. Затем уже дальше я расположил бы французских прозаиков и чуть ли не на последнем месте немецких…»[83]
Американцы и русские тоже выстраиваются в иерархию, в определенный ценностный ряд.
На первом месте, конечно, оказывается Хемингуэй. Кумир эпохи и поколения, папа Хэм, автор не только романов и новелл, но и книги собственной жизни настоящего мужчины с войной, боем быков, охотой, Парижем, Испанией, Африкой, настоящей любовью и точкой пули из охотничьего ружья в конце. «Главным американцем в советской истории был писатель Эрнест Хемингуэй. Только в его книгах советские читатели нашли идеалы, сформировавшие мировоззрение целого поколения. Стиль его прозы определил стиль шестидесятников»[84].
Одна из глав «Невидимой книги» – «Дальше» – начинается таким пассажем: «1960 год. Новая творческая волна. Рассказы, пошлые до изумления. Тема – одиночество. Неизменный антураж – вечеринка. Выпирающие ребра подтекста. Хемингуэй как идеал литературный и человеческий»[85].
Через восемь лет, включая книгу в «Ремесло», Довлатов чуть подредактировал текст и привел «примерный образчик фактуры» своей ранней прозы:
«– А ты славный малый!
– Правда?
– Да, ты славный малый!
– Я разный.
– Нет, ты славный малый. Просто замечательный.
– Ты меня любишь?
– Нет…» (3, 358).
Вполне правдоподобно, стильно (в таком духе писали в шестидесятые многие), но уже очевидно иронично. Идеал превращается в «просто писателя», манера которого поддается пародированию.
В том же году, рецензируя книгу Р. Орловой «Хемингуэй в России» (Анн-Арбор, 1985), в которой были собраны многочисленные материалы о судьбе «русского американца» (в том числе писательские письма), Довлатов дал сжатую формулу «бурного и драматического „романа“ между русским обществом и великим американским писателем»; открытие в тридцатые годы – опала в сороковые – реабилитация и бурная романтическая всеобщая любовь в шестидесятые – постепенное угасание «романа» в семидесятые. «Именно в эту пору, когда Хемингуэй завоевал журналы и издательства, сцену и кинематограф, русское общество начало охладевать к своему кумиру. Любовь к нему перестала быть личной, интимной, полузапретной, она стала общей, дозволенной, массовой, а это ли не верный признак угасания чувств?» (5, 301).
Рецензия называется «Папа и блудные дети» и заканчивается исповедально-ностальгически: «Хемингуэй был кумиром, а любовь или хотя бы благодарность к развенчанному кумиру требует от нас известной доли благородства, поэтому главная ценность книги Раисы Орловой именно в том, что она пробуждает добрые чувства в тех из нас, кто еще способен на это» (5, 303).
Память о Хемингуэе тем не менее осталась в довлатовских текстах, трансформировалась в «память жанра» (о чем – дальше).
В роли младших богов литературного пантеона оказывались и другие американцы, главным образом – рассказчики.
«Одним из самых любимых его авторов всегда был Шервуд Андерсон, „Историю рассказчика“ которого Сережа берег пуще всего на свете» (МД, 395).
«Однажды Сергей сказал фразу, которая – вероятно, в силу некоторой непонятности для меня – сохранилась в памяти: „Я вышел из «Голубого отеля» Стивена Крейна“» (МД, 422).
«Как он знал и ценил новую американскую прозу! Любовно читал Хемингуэя, Дос-Пасоса, Фолкнера, Чивера, Апдайка, Вулфа. Мы ведь и все в 50–60-е годы были увлечены ими. Но для него они были боги, учителя, старшие братья»[86].
Причины не только стилистического, но метафизического, философского тяготения к американской литературе точно объяснил человек того же поколения. «Дело в том, что Сережа принадлежал к поколению, которое восприняло идею индивидуализма и принцип автономности человеческого существования более всерьез, чем это было сделано кем-либо и где-либо. Я говорю об этом со знанием дела, ибо имею честь – великую и грустную честь – к этому поколению принадлежать. Нигде идея эта не была выражена более полно и внятно, чем в литературе американской, начиная с Мелвилла и Уитмена и кончая Фолкнером и Фростом… Идея индивидуализма, человека самого по себе, на отшибе и в чистом виде, была нашей собственной… Идея индивидуализма к тому времени стала для нас действительно идеей – абстрактной, метафизической, если угодно, категорией. В этом смысле мы достигли в сознании и на бумаге куда большей автономии, чем она осуществима во плоти где бы то ни было. В этом смысле мы оказались „американцами“ в куда большей степени, чем большинство населения США…» (И. Бродский) (МД, 397).
Тяготение на самом деле было резонансом мировоззрений, на языке литературоведения – типологическим сходством.
На довлатовской «золотой полке» оказываются порой книги весьма неожиданные, в которых краткость и юмор даже не ночевали.
В письме конца семидесятых пропета хвала Джойсу, противопоставленному прежним кумирам: «Хемингуэй плоский. Фолкнер объемный, но без рентгена. А у этого – душераздирающие нравственные альтернативы. Иезуит, национальное самоопределение, хуе-мое…» (МД, 521).
«В дни нашей последней нью-йоркской встречи (ноябрь 1989 года), – вспоминает А. Арьев, – Сережа несколько раз заговаривал со мной о Кафке. С оттенком тревожного недоумения он признавался, что этот автор все больше захватывает его воображение. „Конечно, принято считать, – усмехался он, – что Кафка – не довлатовского ума дело. Да, помнишь, мы ведь и сами орали на филфаке: «Долой Кафку и Пруста! Да здравствуют Джек Лондон и Виталий Бианки!» Теперь, видно, аукнулось. Прямо какое-то наваждение – писатель, самым жесточайшим манером обделенный чувством юмора, вдруг не дает мне покоя…“».
Чуть приоткрывает причины наваждения более раннее довлатовское эссе «Записки чиновника», предваряющее публикацию кафкианского «Приговора» в журнале «Семь дней». В оглавлении оно аннотируется фразой (авторской? редакторской?): «Как удалось Францу Кафке предугадать наш мир?» В тексте Довлатов вспоминает приписываемую В. Бахчаняну известную шутку «Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью!» и уже всерьез формулирует: «…проза Франца Кафки, суховатая, почти бесцветная, лишенная малейших признаков эстетического гурманства, интересует нас прежде всего своим трагическим содержанием, причем именно в нас (русских? советских? – И. С.) она вызывает столь болезненный отклик, ведь именно для нас фантасмагорические видения Кафки обернулись каждодневной будничной реальностью…» (5, 267).
Характерный для анекдота стык будничности и фантасмагории, абсурда обнаруживается и в прозе Кафки. Юмор и трагедия растут, оказывается, из одного корня. Через литературные симпатии просвечивают те же полюса довлатовской прозы: чувство юмора и чувство драмы.
Русский ряд на «золотой полке» оказывается, конечно, длиннее.
Уже цитированный фрагмент о Хемингуэе из «Невидимой книги» продолжался
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим отзывом от прочитанного(прослушанного)! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Уважаемые читатели, слушатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.
- 1. Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации.
- 2. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний.
- 3. Просьба отказаться от нецензурной лексики.
- 4. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.
Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор knigkindom.ru.
Оставить комментарий
-
 Ма28 февраль 23:10
Роман очень интересный и очень тяжелый, автор вначале не зря предупреждает о грязи, коротая будет сопровождать нас- это не...
Ты принадлежишь мне - Ноэми Конте
Ма28 февраль 23:10
Роман очень интересный и очень тяжелый, автор вначале не зря предупреждает о грязи, коротая будет сопровождать нас- это не...
Ты принадлежишь мне - Ноэми Конте
-
 Гость Ольга27 февраль 19:29
Очень интересно читать,но история не закончилась,и это немного разочаровало. Нельзя так расстраивать читателя.Но спасибо автору,...
30 закатов, чтобы полюбить тебя - Мерседес Рон
Гость Ольга27 февраль 19:29
Очень интересно читать,но история не закончилась,и это немного разочаровало. Нельзя так расстраивать читателя.Но спасибо автору,...
30 закатов, чтобы полюбить тебя - Мерседес Рон
-
 Ма27 февраль 05:35
История отвратительная, прочитала половину, ожидая, что гг возьмется за ум и убьет мч, потом не выдерживая этого садизма и...
Лали. Его одержимость. - Ира Далински
Ма27 февраль 05:35
История отвратительная, прочитала половину, ожидая, что гг возьмется за ум и убьет мч, потом не выдерживая этого садизма и...
Лали. Его одержимость. - Ира Далински