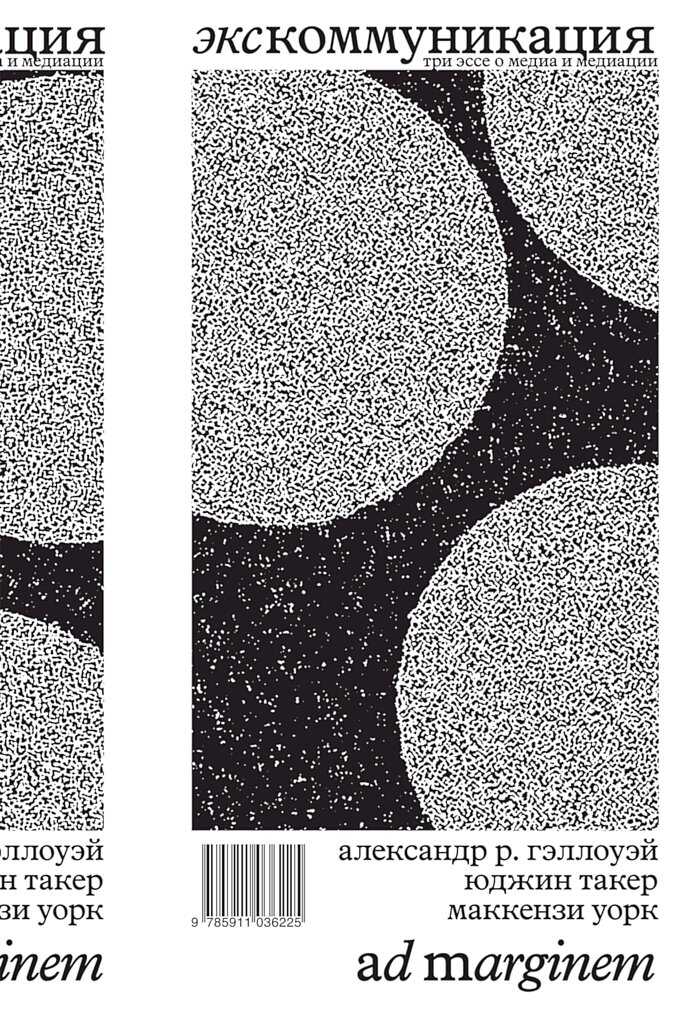Прагматика и поэтика. Поэтический дискурс в новых медиа - Екатерина Захаркив
Книгу Прагматика и поэтика. Поэтический дискурс в новых медиа - Екатерина Захаркив читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
В тексте встречается множество примеров употребления перформативных глаголов, маркирующих различные речевые акты: Pooh-poohs the pirate, / Those arrant caprices / of that arrogant species / I declare aberrant! (E. Ostashevsky); I beg your pardon. I’m / an emancipated / parrot. I do promise / that in the unlikely / event you say something / worth repeating, I shall / repeat it. – AAARRRGH!!! (E. Ostashevsky).
Отдельно выделим такие глаголы речевого действия, как say (также tell, speak), в которых эксплицируется перформативная формула ‘Я говорю, что’:
1st PIRATE: I say X marks the spot where the crew of The Bulging Hinde buried their thesaurus!
2nd PIRATE: And I say it’s indeterminate!
3rd PIRATE: And I say that thesaurus is a tyrannosaurus! (E. Ostashevsky)
Если в обыденной речи такие глаголы не выражают отношение говорящего к содержанию речевого акта или коммуникативной ситуации (просьбу, убеждение, сожаление и др.), а употребляются для повышения экспрессивности, то в поэтическом дискурсе в их употреблении выделяется метаязыковая функция, связанная с переосмыслением перформативности как языковой категории, а также языковых и коммуникативных механизмов в целом:
Данный фрагмент текста развивается как эксперимент над коммуникативными и языковыми нормами и начинается с того, что отрицается само наличие сообщения, найденного в бутылке: I found a message in a bottle. – What kind of bottle? – / An empty bottle. – Read on, then. Такой прием – сообщение в пустой бутылке – можно сравнить с иллокутивным самоубийством, поскольку само наличие текста одновременно отрицается и требуется к прочтению. Однако прочтение сообщения Попугаем приводит к дальнейшему коммуникативному парадоксу: написанное на макаронической смеси архаизмов (morrow, loueth, hath), окказионализмов (Parrat) и современного английского языка, сообщение не находит понимания у адресатов, которые не только отказываются интерпретировать текст (O ye daughters of Jerusalem, cried the parrot, / how many birds would become the martyrs of language / acquisition because of this orthographer!), но и предлагают другие возможные его варианты. Инициальная фраза возможного диалога смещается в гипотетическую реальность, на что указывает модальный глагол should: A message in a bottle should say, «Help, I am stranded on / a deserted island», agreed the parrot <…> Or else, «Do you have any aspirin, for I am stranded on a / deserted island with a positively potative parrot», / proposed the pirate.
Перформативная формула становится моделью для языкового эксперимента с неологизмом potative: Do you say «POUGH-tative?» asked the pirate. / Because I say «po-TAH-tive». Каноническое употребление глагола в 1-м лице ед. ч. настоящего времени, которое должно акцентировать сказанное, становится объектом для сомнения в самом наличии высказывания. Пират, произнесший potative, подвергает сомнению собственные слова, что, с одной стороны, нарушает нормы коммуникации, а с другой – выводит в фокус сам этот неологизм potative, который может быть понят как дериват от (англ.) putative ‘путативный’, portative ‘портативный’, potable ‘питьевой’, potato ‘картофель’ и (ит.) potere ‘мочь’. Интересно, что сам термин «путативный» в значении ‘возможный, гипотетический, выражающий мнение’ с точки зрения причинно-следственных отношений противопоставляется «фактивному» как обладающему презумпцией истинности и выражающему знание актанта.
Таким образом, акт номинации, выраженный в перформативной форме, подвергается метаязыковой рефлексии, направленной на критическое осмысление языковых механизмов, логико-семантических, прагматических и коммуникативных норм.
Помимо перформативных глаголов, в центре поэтической рефлексии оказываются и другие прагматические маркеры, в частности модальные глаголы. В тексте Осташевского употребляются разные формы модальных глаголов (can, can’t, cannot, might), глаголов с модальным значением (presume, suppose), дискурсивных маркеров (you know) и устойчивых фразеологизированных единиц и идиом (on hands, can’t make heads or tails, to be going <on>):
PARROT
I don’t have any «you know» on my hands.
PIRATE
Parrot, you don’t have hands. You’re only a bird.
PARROT
What of it that I don’t have hands? I have organs, dimen-
sions, senses, affections, passions…
PIRATE
I wasn’t going there. Can’t you tell what I mean?
PARROT
I cannot tell what you mean.
PIRATE
Of course you can tell what I mean. We have it on our
hands.
PARROT
You might tell what you mean to have on your hands. But
why do you presume to speak for me? What gives you
that right?
PIRATE
I was just supposing that, as you . . .
PARROT Again: me. Suppose yourself!
PIRATE Why do you pick on me.
PARROT
Because I can’t make heads or tails of what you’re saying.
(E. Ostashevsky)
В фокус поэтического эксперимента выводится сдвиг между прямым и переносным значением таких грамматикализованных единиц, как модальные глаголы, дискурсивные маркеры и фразеологические единицы. Благодаря метаязыковой функции поэтического языка, которая является одной из доминирующих в современной поэзии, реализуется семантический сдвиг от грамматикализованной единицы с утраченной семантикой в обратную сторону, то есть в сторону ее ресемантизации. При этом модальные глаголы балансируют на грани идиоматического, модального и лексического значений. «Модальный сдвиг» (термин образован по аналогии с «дейктическим сдвигом») происходит между глаголами can tell и might tell, что приводит к изменению между оттенками модальности, поскольку эти глаголы могут выражать разные типы модальности: внутренней, деонтической и эпистемической (по классификации [Auwera, Plungian 1998]).
Полисемия актуализируется во фразе Can’t you tell <what I mean?>, модифицированной от фразеологизированной разговорной формы you never can tell ‘никогда нельзя сказать, как знать’, которая в данном контексте означает ‘Ты можешь понять <что я имею в виду?>’, но может быть интерпретирована и буквально: ‘Ты можешь сказать <что я имею в виду?>’. Возможность буквального понимания can <not> tell основана на отказе от понимания, что эксплицируется в диалоге, звучащем в лучших традициях театра абсурда: Can’t you tell what I mean? – I cannot tell what you mean, когда ответная реплика ‘Я не могу понять, что ты имеешь в виду’ может быть интерпретирована и как ‘Я не могу сказать, что ты имеешь в виду’, то есть ‘Я не могу сказать за тебя твои мысли’. В таком полисемичном контексте модальный глагол can может обозначать способность как к пониманию, так и к говорению, что соответствует внутренней модальности.
При этом способность или, наоборот, неспособность может быть как ментальной, так и физической, на что указывают
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим отзывом от прочитанного(прослушанного)! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Уважаемые читатели, слушатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.
- 1. Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации.
- 2. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний.
- 3. Просьба отказаться от нецензурной лексики.
- 4. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.
Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор knigkindom.ru.
Оставить комментарий
-
 Гость Светлана14 февраль 10:49
[hide][/hide]. Чирикали птицы. Благовония курились на полке, угли рдели... Уже на этапе пролога читать расхотелось. ...
Госпожа принцесса - Кира Стрельникова
Гость Светлана14 февраль 10:49
[hide][/hide]. Чирикали птицы. Благовония курились на полке, угли рдели... Уже на этапе пролога читать расхотелось. ...
Госпожа принцесса - Кира Стрельникова
-
 Гость Татьяна14 февраль 08:30
Интересно. Немного похоже на чёрную сказку с счастливым концом...
Игрушка для олигарха - Елена Попова
Гость Татьяна14 февраль 08:30
Интересно. Немного похоже на чёрную сказку с счастливым концом...
Игрушка для олигарха - Елена Попова
-
 Гость Даша11 февраль 11:56
Для детей подросткового возраста.Героиня просто дура,а герой туповатый и скучный...
Лесная ведунья 3 - Елена Звездная
Гость Даша11 февраль 11:56
Для детей подросткового возраста.Героиня просто дура,а герой туповатый и скучный...
Лесная ведунья 3 - Елена Звездная