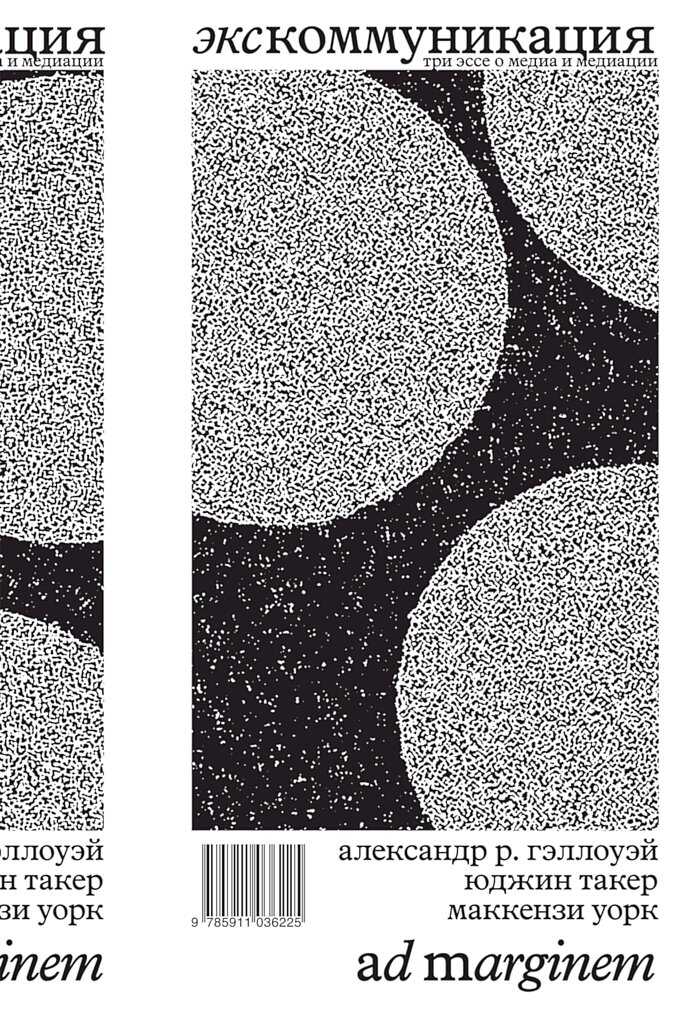Прагматика и поэтика. Поэтический дискурс в новых медиа - Екатерина Захаркив
Книгу Прагматика и поэтика. Поэтический дискурс в новых медиа - Екатерина Захаркив читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
И вот, парадокс… – в поэзии, наряду с говорением, существует и молчание, но даже оно создается только Словом: молчащая Поэзия – говорящая некоторым иным способом… [Айги 2001: 158].
Выражение тишины и молчания в тексте достигается различными средствами, среди которых Дж. Янечек выделяет редукцию текста, минимализацию выразительных средств и поликодовость:
Все творчество Г. Айги создано под знаком минимализма <…> Г. Айги показывает, как можно (и лучше) делать поэзию из совсем немногого. В минимализме поэтических средств необходимо глубокое уважение к словесному материалу и к способу его передачи [Янечек 2006: 141].
Другим способом выражения молчания становятся преимущественно косвенные речевые акты, в которых оно выражается в номинативной и непредикативной форме: «и одно остается: овраги; молчание; вижу; овраги»; «что больше говорим – кружа вокруг молчаньем»; «молчаливое „здравствуй“ гвоздя»; «боярышник – при пении молчащий / как бог молчащий – за звучащим Словом: / молчащий – личностью неприкасаемой: / лишь тронь – и будет: Бога нет»; «События: некоторые часы – тишины».
Молчание становится перформативным жестом иного говорения, на до- или сверхвербальном уровне. Как черный квадрат становится многомерным знаком на белом фоне, так и молчание обретает «звучание» через сопоставление со словами, обозначающими слабый звук (шепот): («так (если молчанье – в словах / и последнее веется): / к вам – слабостью шепото-ткани (того же / и в думаньи)») и получает новые значения через паронимическое сближение со словами, обозначающими не обычное говорение, а скорее звучание многочисленных голосов (молвь – ср. с цитатой «Людская молвь и конский топ» из А. С. Пушкина): «веянье: помни: в молчании – молвь».
В связи со значением молчания в поэзии неоавангарда можно привести примеры из поэзии Мнацакановой, которая использовала глаголы молчания так же активно, как глаголы говорения: «помолчи нас и помилуй / нам помилуй нас молчи нас и помилуй нам <…> / светлая моряна помолчи нас! / святая моряна помилуй нас!» Важно отметить, что в этом примере глагол помолчи выражает аномальную форму глагольного управления, поскольку является непереходным и не имеет прямого объекта. У Мнацакановой же сфера его функционирования расширяется за счет формирования новых валентностей.
Итак, анализ речевых актов в текстах Айги позволил выявить значимость прагматического измерения для его поэзии и исследовать особенности поэтической коммуникации. Для поэзии Айги характерен сдвиг от прямых перформативов к косвенным речевым актам, что связано со спецификой его поэтического высказывания как перформативного жеста, направленного одновременно внутрь (авто) и вовне (к конкретному и/или идеальному адресату). Поскольку прагматическая ситуация балансирует на границе между внешней и внутренней коммуникацией, высказывание не требует строгой грамматической маркированности. Для самого Айги поэзия представляла одновременно и внешний речевой жест, и автокоммуникативное действие, и «священнодействие», возникающее из синтеза разных режимов высказывания, языков и семиотических систем.
Разнонаправленность диалога – по внутренней и внешней линии референции – выражается в частотности употребления экспрессивов, иллокутивных актов, которые описывают психологическое состояние субъекта (в функции благодарности, извинения, прощания и пожелания, в том числе в форме абсолютной благодарности), и директивов (в функции вопроса и просьбы). Речевые акты, конвенционально ориентированные на внешнего адресата, могут получать у Айги автокоммуникативную направленность на самого поэтического субъекта, как в случае с актом авторефлексивного моления. Автокоммуникативные функции доминируют при употреблении глаголов говорения. Иллокутивные акты молчания, характерные для Айги, оказываются максимально приближенными к автодиалогу и удаленными от внешней коммуникации, выражая функцию поэтического высказывания как действия, в котором молчание оказывается семантически и прагматически равнозначно говорению.
Глава 4
Новые функции перформативов и модальных глаголов в современной американской поэзии
Рассмотрим некоторые особенности поэтической прагматики с точки зрения неузуального функционирования перформативных и модальных глаголов в современной американской поэзии. Наиболее часто прагматические маркеры встречаются в текстах американских поэтов, относящихся к направлению «Языковое письмо» (Language Poets, или Language Writing: Б. Уоттона, Ч. Бернстина, Л. Хеджинян и др.), а также в текстах современных поэтов, в которых поэтический дискурс взаимодействует с обыденным языком (Е. Осташевского, С. Роггенбука, Дж. Кловера и др.). В этих текстах наблюдается общая тенденция к выдвижению в фокус прагматических маркеров как индексов новых стратегий субъективации и адресации.
Важное начинание для осмысления генезиса культуры осуществляет С. Г. Проскурин, интерпретируя истоки развития культуры через тексты, представленные в виде «перформативных ядер, т. е. ключевых выражений, нацеленных на совмещение говорения и делания» [Проскурин 2013: 153]. Исследуя древние перформативы, лежащие в центре иудеохристианской и зороастрийской религий, исследователь проводит параллель между «номинализмом» как ведущим принципом мифопоэтической традиции и перформативностью, связанной с изреченным действием: «Ахура-Мазда молвил: / „Мое то будет имя, / Спитама-Заратуштра, / Святых Бессмертных имя, – / Из слов святой молитвы / Оно всего мощнее, / Оно всего победнее / И наиблагодатнее, / И действенней всего“» или «И сказал Бог: да будет свет»; «И назвал Бог свет днем, а тьму ночью» [Там же: 154]. С. Г. Проскурин делает значимый для диахронического и общетеоретического понимания перформативности вывод о том, что эти формально «нетипичные для современности, древние перформативы» основаны на изначальном синтезе делания и говорения: «В этой связи древние перформативы – это формулы говорения типа „сказал“, „изрек“» [Там же: 155]. Исследуя особенности перформативов в религиозных текстах на древнеанглийском и раннесреднеанглийском языках, А. В. Проскурина развивает теорию древних перформативов, выделяя в них общий прагмасемантический базис: перформативные каркасы, или «подушки», на которых покоится фундамент речевой деятельности [Проскурина 2019].
Исследуя принципы межкультурной коммуникации и выявляя особенности национального стиля коммуникации (на материале русского и английского языков), Т. В. Ларина обращается к анализу речевых актов как основных маркеров коммуникативного поведения [Ларина 2009].
Помимо национально-специфического функционирования речевые акты могут иметь и дискурсивно-специфические функции, что мы рассмотрим далее, на материале американской поэзии.
Рассмотрим, как перформативные глаголы функционируют в творчестве русско-американского поэта-билингва Евгения Осташевского, на примере поэмы «The Pirate Who Does Not Know the Value of Pi» (2017). Билингвизм Осташевского формирует остраненный (в терминологии В. Б. Шкловского) фокус восприятия языка поэтом, что выражается не только на уровне лексики (например, в паронимической аттракции названий главных персонажей – Parrot и Pirate), но и на уровне прагматики.
Отметим также, что этот текст строится как взаимодействие поэтического и драматургического дискурсов: это выражается во включении компонентов драмы, таких как указание действующих лиц, ремарки и пр. Текст ориентирован на перформативное исполнение его как драмы-диалога между Попугаем и Пиратом, причем сам Осташевский обычно исполняет ее как диалог в двух лицах – драматический автодиалог.
Обращаясь к прагматическим маркерам, рассмотрим, прежде всего,
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим отзывом от прочитанного(прослушанного)! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Уважаемые читатели, слушатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.
- 1. Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации.
- 2. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний.
- 3. Просьба отказаться от нецензурной лексики.
- 4. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.
Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор knigkindom.ru.
Оставить комментарий
-
 Гость Светлана14 февраль 10:49
[hide][/hide]. Чирикали птицы. Благовония курились на полке, угли рдели... Уже на этапе пролога читать расхотелось. ...
Госпожа принцесса - Кира Стрельникова
Гость Светлана14 февраль 10:49
[hide][/hide]. Чирикали птицы. Благовония курились на полке, угли рдели... Уже на этапе пролога читать расхотелось. ...
Госпожа принцесса - Кира Стрельникова
-
 Гость Татьяна14 февраль 08:30
Интересно. Немного похоже на чёрную сказку с счастливым концом...
Игрушка для олигарха - Елена Попова
Гость Татьяна14 февраль 08:30
Интересно. Немного похоже на чёрную сказку с счастливым концом...
Игрушка для олигарха - Елена Попова
-
 Гость Даша11 февраль 11:56
Для детей подросткового возраста.Героиня просто дура,а герой туповатый и скучный...
Лесная ведунья 3 - Елена Звездная
Гость Даша11 февраль 11:56
Для детей подросткового возраста.Героиня просто дура,а герой туповатый и скучный...
Лесная ведунья 3 - Елена Звездная