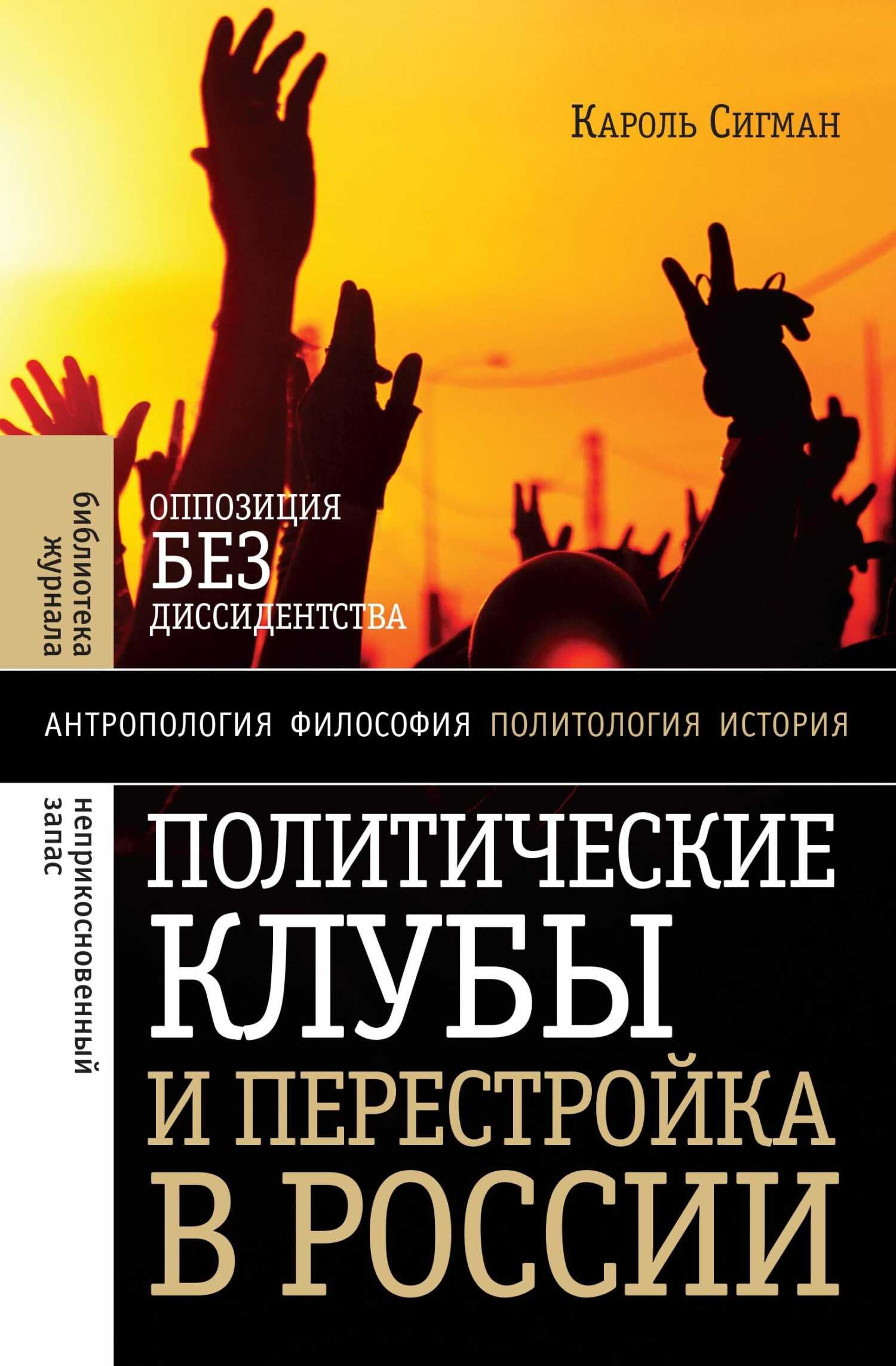Потерпевшие победу. Советские либералы и крах демократии в России (1987–1993 годы) - Гийом Совэ
Книгу Потерпевшие победу. Советские либералы и крах демократии в России (1987–1993 годы) - Гийом Совэ читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Как и Буртин, Баткин в этом отрывке высмеивает знаменитую фразу Пушкина о русском бунте, которая, как мы отмечали в четвертой главе, была характерна для дискурса либеральной интеллигенции с ее страхом перед приходом масс в политику.
После смерти Сахарова либеральная интеллигенция единодушно отметила его нравственные качества: «пророк [который] порой словно бы не видел того, что рядом. Его глаза были фокусированы на даль», человек «высокой нравственности, духовности»[548]. Юрий Буртин, как мы уже говорили, также считал Сахарова «высоким примером» несгибаемого соблюдения нравственных принципов перед лицом компромиссов «прагматиков». Именно так видели Сахарова и сами «прагматики», но тем лучше для того, чтобы отвергнуть его предложения. Клямкин, например, отвергал позицию Сахарова как «лишь некий нравственный ориентир общества, его идеал», не указывающий на конкретный политический механизм достижения демократии и рынка[549]. Баткин, в свою очередь, отказался назвать демократические позиции Сахарова идеализмом: слишком большим подарком сторонникам авторитарных преобразований было бы дать им монополию на прагматизм. Он ответил Клямкину: «Сахаров, исходя из современных мировых реалий, предлагает не просто „нравственный“, но политический ориентир, именно так, на переходную эпоху. Не надо, коллеги, утешать себя: авторитаристские „модели“ враждебны этим ориентирам, и практическому, и нравственному»[550]. После смерти Сахарова Баткин осудил возведение его в ранг нравственной иконы:
О нем говорили: «мечтатель», «Дон Кихот», «идеалист», он-де просто толкует о том, что до́лжно, он не считается с реальностью. А Сахаров-то и был самым реалистичным, самым практичным политиком. Он исходил не только из того, что нравственно, из того, что до́лжно. Он прилагал к повседневным российским реальностям масштаб XX века <…> Поэтому он работал за либеральную парламентскую демократию, как за ту форму жизни, которая адекватна современному производству, современной науке, современному уровню общества. Он был практичен, потому что заглядывал дальше сегодняшней нашей ситуации. Он оставался реалистом, потому что был абсолютно чужд оппортунизму[551].
И Буртин, и Баткин ссылались на политическое наследие Сахарова, призывая демократов к созданию демократической оппозиции Ельцину. Но они представляли собой две совершенно разные фигуры бывших диссидентов, один – «идеалист», другой – «прагматик», и они наставляли, прибегая к разным аргументам. В то время как Буртин выступал за создание моральной оппозиции, основанной на личной работе каждого человека над своей совестью, Баткин отказывался связывать демократию с моральным императивом: по его мнению, она заключается в обеспечении практических условий для автономии общества от власти и тем самым для открытой и плюралистической политики.
Выходы за рамки дихотомии прагматизм – идеализм
Среди сторонников демократической оппозиции Ельцину нет единого мнения о роли морали в политике. Если Буртин считает, что в основе этой стратегии лежит возвращение морали в сознание каждого человека, то Баткин настаивает на том, чтобы не оставлять монополию на прагматизм сторонникам «железной руки», и рассматривает демократию как практическую процедуру, безразличную к моральным качествам граждан и лидеров. В этом контексте было бы упрощением противопоставлять «идеализм» критиков Ельцина «прагматизму» его безусловных сторонников. Одним словом, разделительная линия по вопросу о роли морали в политике проходит не так, как между сторонниками консолидации общества в поддержку реформаторов и сторонниками автономии демократического движения.
С одной стороны, Баткин и теоретики авторитарного перехода к демократии утверждали – по совершенно разным причинам – важность отделения сферы морали от сферы политики. Для Баткина политическая сфера должна была быть автономной, чтобы сохранить открытость вопроса о власти. Для Миграняна, Клямкина, Гайдара и других сторонников авторитарных преобразований политика должна была освободиться от морали, чтобы соответствовать императивам модернизации и государственной стабильности. Однако не стоит переоценивать значение этих двух типов антиморалистских взглядов в среде либеральной интеллигенции. Ведь, с другой стороны, большинство либеральных протагонистов в дискуссии о взаимоотношениях демократического движения и реформаторской власти демонстрировали расхождения, лежащие, по сути, в рамках моральной перспективы либеральной интеллигенции, идеалы, концепции и постулаты которой они разделяют, не считая разногласий. Для Буртина, как и для Чудаковой, политическая жизнь – бинарная борьба между теми, кто воплощает общечеловеческие ценности – демократию и рынок, и теми, кто из корысти или из‑за слепоты выражает догматические идеи. С этой точки зрения вопрос о власти является инструментом решения гораздо более фундаментальной проблемы: возвращения к цивилизации или сохранения тоталитаризма. Поэтому важно не столько то, как осуществляется власть и какую программу она выдвигает, сколько то, какое место занимает власть в этой бинарной нравственной борьбе. Как и Чудакова, Буртин определял свое отношение к власти в соответствии с относительной моральной близостью, которая знает только две возможности: «наша власть» или «чужая власть»[552], то есть власть оппонентов в этой бинарной борьбе. Если с 1991 года Буртин и Чудакова выступали с диаметрально противоположными политическими программами действия для демократического движения, то это объясняется не тем, что один из них «прагматик», а другой «идеалист», а тем, что они не придавали одинакового значения двум нравственным стремлениям политического проекта либеральной интеллигенции того времени: очищению общественного сознания и самореализации через искреннее выражение личной совести. Или, говоря иначе, переходу к цивилизации и целостности личности. Для Чудаковой победа над красно-коричневыми силами означала игнорирование недемократической практики реформаторской власти. Для Буртина власть, лишенная порядочности, не могла быть ответственной за реформы. Оба отказались поступиться своими идеалами: подписанты «Письма 42‑х» не пошли на компромисс с националистически-коммунистическими «вампирами»; а Буртин осудил уступки Ельцина номенклатуре. Их приоритеты ценностей различны (Буртина можно назвать левым за отстаивание интересов «народа», Чудакову – правой за поддержку неолиберального правительства), но в основе их рассуждений лежат общие предположения, концепции и идеалы, унаследованные от морального взгляда на политику, разделяемого многими либеральными интеллектуалами в период перестройки.
Заключение
Не последним парадоксом перестройки является то, что значительная часть советской либеральной интеллигенции, чья приверженность демократизации была обусловлена мощными нравственными устремлениями к истине, честности и демократии, стала поддерживать концентрацию власти в руках реформатора, который, безусловно, олицетворял собой непримиримое неприятие
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим отзывом от прочитанного(прослушанного)! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Уважаемые читатели, слушатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.
- 1. Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации.
- 2. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний.
- 3. Просьба отказаться от нецензурной лексики.
- 4. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.
Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор knigkindom.ru.
Оставить комментарий
-
 Гость Ирина27 январь 07:29
Мне понравилась история. Спасибо....
Их - Хэйзел Гоуэр
Гость Ирина27 январь 07:29
Мне понравилась история. Спасибо....
Их - Хэйзел Гоуэр
-
 Гость Ирина23 январь 22:11
книга понравилась,увлекательная....
Мой личный гарем - Катерина Шерман
Гость Ирина23 январь 22:11
книга понравилась,увлекательная....
Мой личный гарем - Катерина Шерман
-
 Гость Ирина23 январь 13:57
Сказочная,интересная и фантастическая история....
Машенька для двух медведей - Бетти Алая
Гость Ирина23 январь 13:57
Сказочная,интересная и фантастическая история....
Машенька для двух медведей - Бетти Алая