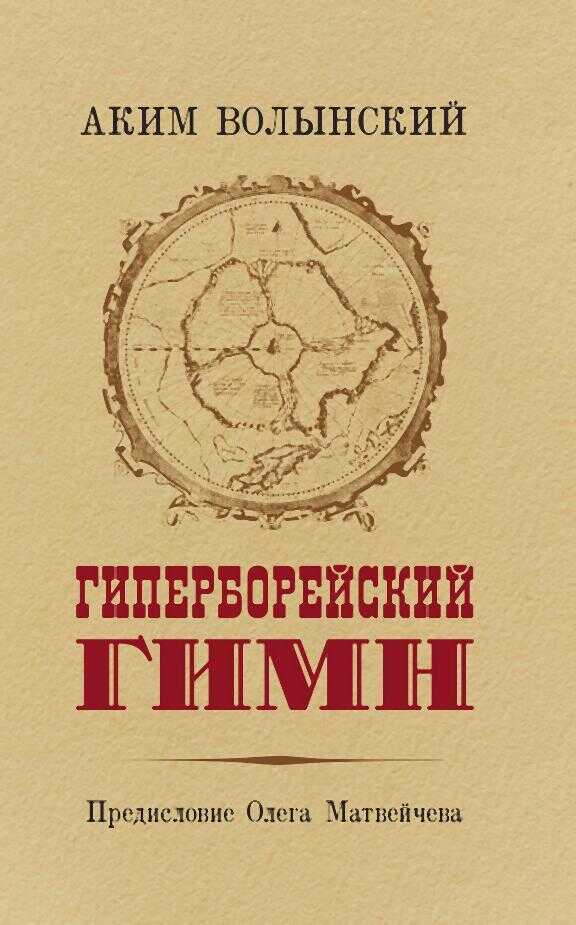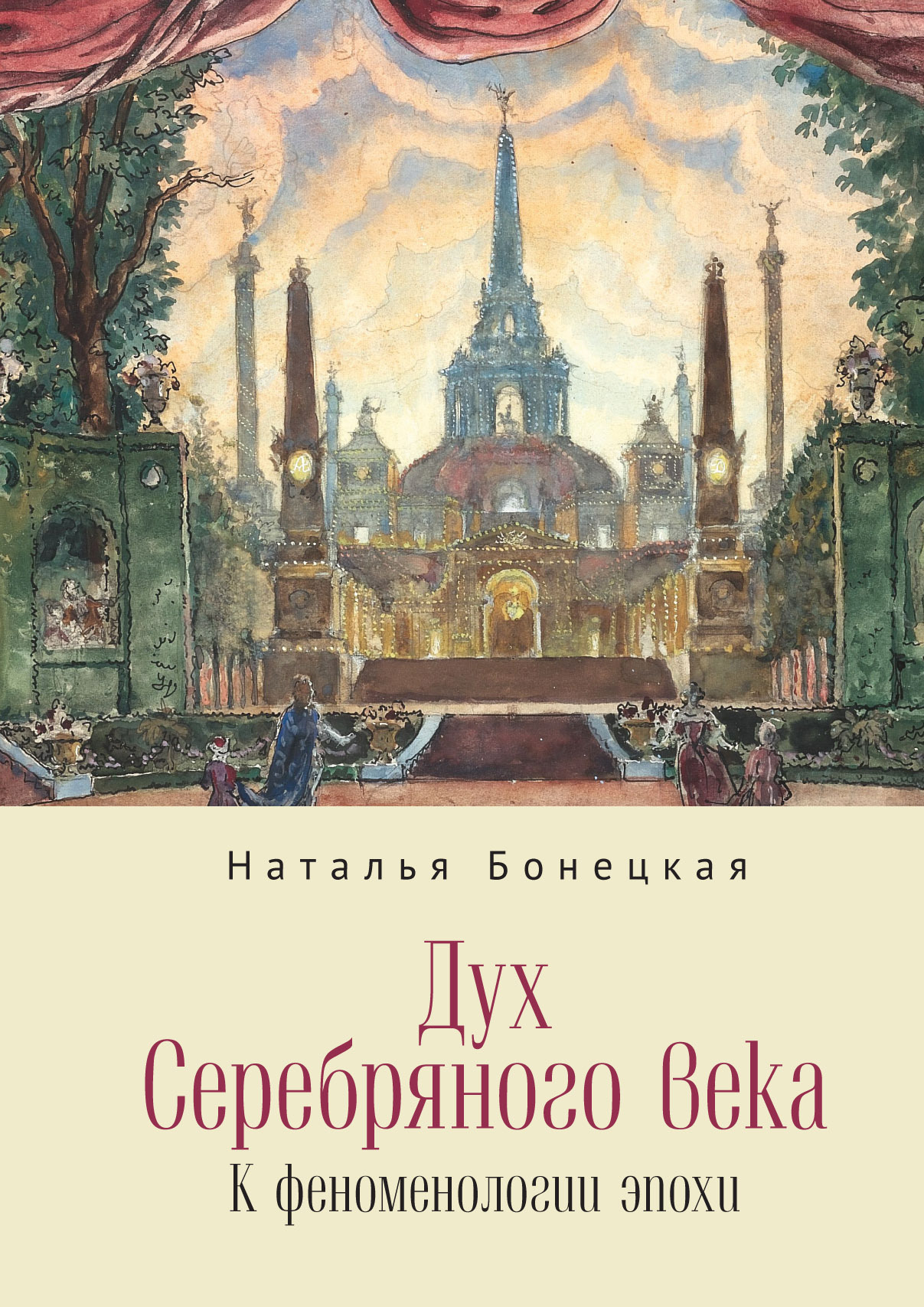Непрошеный пришелец: Михаил Кузмин. От Серебряного века к неофициальной культуре - Александра Сергеевна Пахомова
Книгу Непрошеный пришелец: Михаил Кузмин. От Серебряного века к неофициальной культуре - Александра Сергеевна Пахомова читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Снова встреча, вновь объятья
И разлукой стольких дней
Час любви еще сильней.
В уже упоминавшемся в начале этой главы стихотворении 1924 года «Уходит пароходик в Штеттин…» разворачивается схожая коллизия, однако герой демонстративно отказывается от плавания, будучи привязан к своему возлюбленному:
Без Вас и март мне не заметен,
Без Вас я думать не могу…
Пусть пароход уходит в Штеттин,
Когда и Вы – на берегу.
Из сопоставления этих текстов рождается любопытный вывод: Кузмина, очевидно, перестает смущать его раннее творчество и позиция в символистском лагере, от которой тот старательно отходил на протяжении 1910-х – начала 1920-х годов. Он охотно использует старые приемы и образы, формируя своего рода «поэзию намеков», рассчитанную на искушенного читателя. Кроме того, сама форма «Нового Гуля» – изысканная (насколько это могли позволить издательские условия того времени и ресурсы издательства Academia) маленькая книжка с обложкой Д. И. Митрохина, с интимным циклом – выглядела демонстративно несовременно и подчеркивала ориентацию (а вернее, переориентацию) Кузмина на лирику «для немногих».
Наконец, динамика репутации Кузмина отразилась и в критике, тесно смыкающейся с литературоведением. Речь идет о статье Ю. Н. Тынянова «Промежуток», вышедшей впервые в № 4 журнала «Русский современник» в 1924 году (по мнению комментаторов, в этой статье были развиты положения книги Тынянова «Проблемы стихотворного языка», 1924)[626]. Ранее, в статье 1923 года, посвященной обзору первого выпуска литературного альманаха «Петроград», Тынянов фактически предвосхитил обличительный пафос Перцова, поставив Кузмина в ряд писателей, утративших связь с «живой жизнью»:
Есть поэты, заживо пишущие «посмертные стихи», – но это ясно только современникам. Любителям толковать о «независимом сосуществовании» содержания с формой любопытно будет, может быть, взглянуть, как умирает смысл слов, когда мертвеет форма, когда она примелькалась, и как рождается новый смысл в новой конструкции. Мертвы, хотя и безукоризненны, стихи Сологуба, застыл в «классицизм» символизм Ходасевича, однообразна красивость Кузмина, отвердевают формы Рождественского – и беднеет «смысл»[627].
Год спустя, развивая мысль о смене литературных поколений в «Промежутке» и характеризуя 1924 год как время господства прозы и упадка поэзии, критик делает обзор творчества наиболее заметных поэтов этого «непоэтического времени». В их число попадают Ахматова, Есенин, Маяковский, Пастернак, уже умерший Хлебников, недавно выступивший Сельвинский – но нет ни слова о Кузмине (который недавно выпустил новый поэтический сборник). Для его поэзии в 1924 году места уже не находится. Однако Кузмин все же появляется на страницах статьи Тынянова – его «эмоционализм» подается как безнадежно устаревшая, неактуальная затея:
Теперь это дело седой старины, а ведь еще года два назад даже эмоционалисты, которые заявляли, что лучшее в мире это любовь и какие-то еще более или менее радостные чувства, – даже они, кажется, считались не то школой, не то течением[628].
Упоминание эмоционалистов в «Промежутке» показывает, что провал объединения сыграл существенную роль в процессе формирования новой репутации Кузмина. Несмотря на современный посыл, вкладываемый в программу эмоционализма его создателем, в глазах критиков объединение было примером анахроничных для 1920-х годов «салонов» и потому не привлекло широкую молодую публику (которую уже не могло прельстить и имя Кузмина). Салоны в начале 1920-х годов воспринимали негативно даже те критики, которые в целом симпатизировали творчеству Кузмина: «В литературе нашей начинает, наконец, угасать недобрая старая традиция эстетских салонов – „Абраксас“ стремится эту традицию возродить»[629]. После театральных предприятий 1923 года, кульминацией которых стала постановка «Эугена Несчастного» в Малом театре 15 декабря[630], у эмоционалистов больше не было заметных публичных выступлений. Крах объединения был тем более ощутим для Кузмина, что с эмоционализмом он, по всей видимости, связывал новую писательскую стратегию и обновление своей творческой программы. В анкете, заполняемой для вступления в новый Союз поэтов в 1924 году, в графе «К какому направлению в поэзии себя причисляете» Кузмин указал «эмоционализм», а в следующей графе «В какой группе или кружке поэтов состоите» – «эмоционалисты»[631]. Это было декларативное заявление: писатель сигнализировал, что разделяет определенные творческие принципы и эстетическую платформу. Анкет других участников не сохранилось, однако едва ли примеру Кузмина последовали другие кружковцы – Кузмин остался единственным эмоционалистом.
Можно говорить о том, что основной причиной слома репутации Кузмина стал поворот в культурном развитии страны, пришедшийся как раз на 1923–1924 годы. Всего лишь двумя годами ранее практики дореволюционного литературного процесса были актуальными и жизнеспособными: на это указывал пушкинский юбилей, прошедший под знаменем возрождения прерванной традиции. Однако вскоре стало очевидно, что существовать по законам предшествующего этапа невозможно: усиливающаяся бюрократизация, идеологический диктат начали сказываться уже в 1923 году. Используя терминологию культуролога В. З. Паперного, можно говорить о том, что в этот момент начала происходить явственная смена культуры 1 – революционной, обращенной в будущее и отмеченной милленаристскими настроениями, – культурой 2, которая характеризуется кристаллизацией общества и власть в которой обретает гегемонию над всеми сферами жизни. Под каток этого процесса попал Кузмин. Его концепция «современности», воплощенная в сборнике «Условности», и стимулированная ею писательская стратегия сами по себе не дискредитировали автора: буквально в те же годы идеи, близкие к построениям Кузмина, защищал на страницах «Красной нови» Воронский. Но Кузмин уже не смог органично встроиться в культурный процесс на его новом витке – ему мешала сформированная репутация, которая усиленно отбрасывала его назад, в эпоху, которая все более и более становилась идеологически противоположной современности. За современным Кузминым просвечивала неизжитая репутация Кузмина-порнографа, Кузмина-модерниста, Кузмина – представителя устаревшей культуры. Эмблематичность его образа сама по себе не могла быть преодолена: репутация, в которой отчетливо выделялось ядро из нескольких сложившихся образов, сформировала такую ситуацию, когда у критиков всегда имелась в рукаве козырная карта в виде его негативной стороны, что они активно и использовали. Кузмин усугубил ситуацию еще и тем, что на рубеже 1910–1920-х годов стал возвращаться к былым темам и образам творчества, преодолевая более прогрессивную стратегию современного писателя, готового включиться в новое культурное строительство. Анализ критики Кузмина выявляет его знакомство с пореволюционными литературными проектами – и, что более важно – не выявляет резкого расхождения с ними. Кузмин создавал собственное «революционное искусство» и был вполне созвучен времени, однако потерпел неудачу. Разумеется, в этом совпадении есть момент случайности, однако здесь можно увидеть и логику работы литературной репутации: непосредственно перед радикальной сменой культурного курса прежние практики, которым угрожала опасность исчезновения, на мгновение обрели видимость; разделяющие их представители сплотились и выбрали в качестве титульной фигуры Кузмина. Автор начал
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим отзывом от прочитанного(прослушанного)! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Уважаемые читатели, слушатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.
- 1. Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации.
- 2. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний.
- 3. Просьба отказаться от нецензурной лексики.
- 4. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.
Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор knigkindom.ru.
Оставить комментарий
-
 Гость Юлия09 ноябрь 19:25
Недосказанность - прямой путь к непониманию... Главная героиня вроде умная женщина, но и тут.... ложь, которая всё разрушает......
Это только начало - Майя Блейк
Гость Юлия09 ноябрь 19:25
Недосказанность - прямой путь к непониманию... Главная героиня вроде умная женщина, но и тут.... ложь, которая всё разрушает......
Это только начало - Майя Блейк
-
 Гость Юлия09 ноябрь 14:02
Почему все греческие миллионеры живут в Англии?)) У каждого свой остров))) Спасибо, хоть дислексией страдает не главная...
Чувствительная особа - Линн Грэхем
Гость Юлия09 ноябрь 14:02
Почему все греческие миллионеры живут в Англии?)) У каждого свой остров))) Спасибо, хоть дислексией страдает не главная...
Чувствительная особа - Линн Грэхем
-
 Гость Анна09 ноябрь 13:24
Обожаю автора, это просто надо догадаться, на аватарку самоуверенному и властному мужчине сделать хвост до попы с кучей...
Амазонка командора - Селина Катрин
Гость Анна09 ноябрь 13:24
Обожаю автора, это просто надо догадаться, на аватарку самоуверенному и властному мужчине сделать хвост до попы с кучей...
Амазонка командора - Селина Катрин