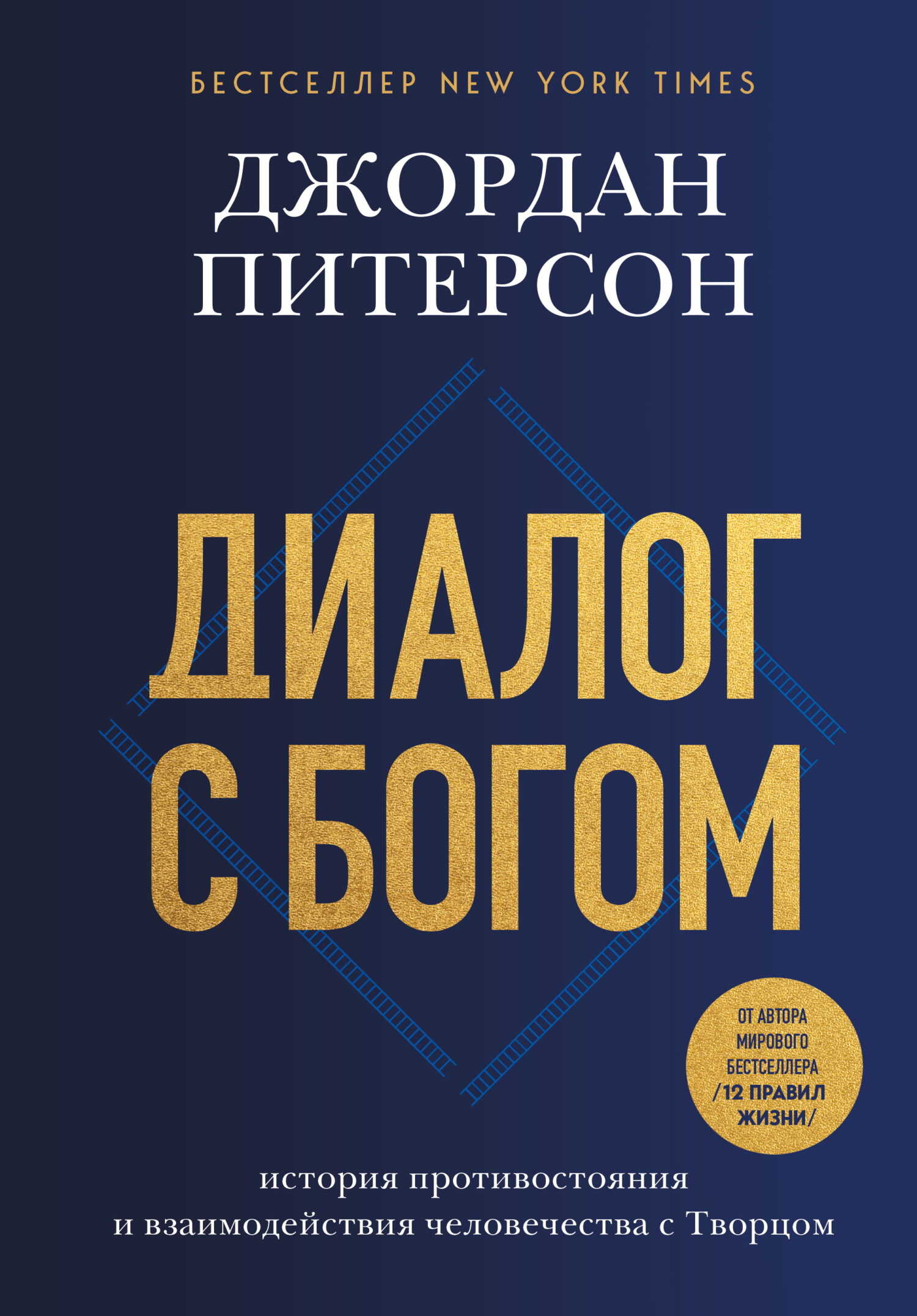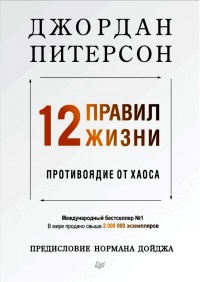Карты смысла. Архитектура верования - Джордан Питерсон
Книгу Карты смысла. Архитектура верования - Джордан Питерсон читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Мифические враждующие братья-близнецы – Спента-Майнью и Ангра-Майнью, Осирис и Сет, Гильгамеш и Энкиду, Каин и Авель, Христос и Сатана – представляют две извечные характеристики личности сыновей Бога, героя и противоборца. Первый образ, архетипический спаситель, – это вечный дух творения и преобразования, который всегда признает неизвестное и, следовательно, продвигается к небесному царству. Его вечный противник, напротив, есть воплощение на практике, в воображении и в философии духа отрицания – вечный отказ от искупительного неизвестного и отсутствие гибкости самосознания. Мифы о враждующих братьях подчеркивают роль свободного выбора в определении способа и смысла существования. Например, Христа (или Гаутаму Будду) постоянно и сильно искушают злом, но они предпочитают отвергать его. Ангра-Майнью и Сатана, напротив, принимают зло, упиваются им (несмотря на доказательства того, что оно порождает их собственные страдания). Выбор этих духов не может объясняться особыми условиями существования (поскольку они одинаковы, во всяком случае, для обоих сущностей) или капризами внутренней природы. Именно добровольная готовность делать то, что, как известно, неправильно, несмотря на способность понимать это и избегать таких действий, особенно точно характеризует зло – зло духа и человека. Бог Мильтона так говорит о вырождении Сатаны и человечества:
И со своим потомством совокупно
Изменчивым – падет. По чьей вине?
Ужели не по собственной? В удел
Я все неблагодарному отвел,
Чем он владеть способен; Я благим
Его и чистым создал; волю дал
Свободно Зло отвергнуть или пасть[474].
Отказ от добра, я думаю, наиболее успешно и часто объясняется ужасными эмоциональными последствиями (само)сознания. Это означает, что понимание уязвимости и смертности человека, а также связанных с этим страданий – осознание крайней жестокости и бессмысленности бытия – может быть использовано в качестве оправдания зла. Жизнь ужасна, иногда кажется, что она совершенно невыносима: несправедлива, иррациональна, болезненна и бессмысленна. В таком свете само существование вполне может показаться чем-то изжившим себя с точки зрения разума. Мефистофель Гёте, князь лжи, так описывает свою философию (в первой части «Фауста»):
Я дух, всегда привыкший отрицать.
И с основаньем: ничего не надо.
Нет в мире вещи, стоящей пощады.
Творенье не годится никуда.
Итак, я то, что ваша мысль связала
С понятьем разрушенья, зла, вреда.
Вот прирожденное мое начало,
Моя среда[475].
Он слегка дорабатывает это утверждение во второй части произведения:
Конец? Нелепое словцо!
Чему конец? Что, собственно, случилось?
Раз нечто и ничто отожествилось,
То было ль вправду что-то налицо?
Зачем же созидать? Один ответ:
Чтоб созданное все сводить на нет.
«Все кончено». А было ли начало?
Могло ли быть? Лишь видимость мелькала,
Зато в понятье вечной пустоты
Двусмысленности нет и темноты[476].
Духовная реальность бесконечно проявляется в физическом мире (человек исполняет веления богов). Поэтому некоторые люди бессознательно воплощают мифологические темы. Это особенно заметно на примере великих личностей, когда игра высших сил становится практически осязаемой. Ранее[477] мы анализировали детали автобиографии Льва Толстого, использовав его переживания как универсальный пример катастрофических эмоциональных последствий революционной аномалии. Идеологическая реакция Толстого на совершенно неожиданную информацию столь же архетипична. Новости из Западной Европы – откровение о «смерти Бога» – каскадом обрушились на великого автора через имплицитные и эксплицитные культурно обоснованные убеждения. Он очень долгое время испытывал смятение чувств и воспринимал существование как хаос, в котором таилось великое искушение – отождествление с духом отрицания.
Толстой начинает очередной раздел своей исповеди аллегорией из одной восточной басни. Преследуемый диким зверем путешественник прыгает в старый колодец и хватается за растущую там виноградную лозу. На дне колодца сидит, разинув пасть, древний дракон. Наверху подстерегает ужасный зверь – пути назад нет. Человек цепляется за лозу, его руки слабеют, но он все еще держится. Вдруг он замечает двух мышей – черную и белую, – которые грызут спасительную ветку. Скоро она сломается, и путник отправится прямиком в глотку дракона. Тут несчастный видит несколько капель меда на листьях лозы, слизывает их и успокаивается. Для Толстого, однако, радости жизни утратили эту целебную сладость:
Не найдя разъяснения в знании, я стал искать этого разъяснения в жизни, надеясь в людях, окружающих меня, найти его, и я стал наблюдать людей – таких же, как я, как они живут вокруг меня и как они относятся к этому вопросу, приведшему меня к отчаянию.
И вот что я нашел у людей, находящихся в одном со мною положении по образованию и образу жизни.
Я нашел, что для людей моего круга есть четыре выхода из того ужасного положения, в котором мы все находимся.
Первый выход есть выход неведения. Он состоит в том, чтобы не знать, не понимать того, что жизнь есть зло и бессмыслица. Люди этого разряда – большею частью женщины, или очень молодые, или очень тупые люди – еще не поняли того вопроса жизни, который представился Шопенгауэру, Соломону, Будде. Они не видят ни дракона, ожидающего их, ни мышей, подтачивающих кусты, за которые они держатся, и лижут капли меду. Но они лижут эти капли меда только до времени: что-нибудь обратит их внимание на дракона и мышей, и – конец их лизанью. От них мне нечему научиться, нельзя перестать знать того, что знаешь.
Второй выход – это выход эпикурейства. Он состоит в том, чтобы, зная безнадежность жизни, пользоваться покамест теми благами, какие есть, не смотреть ни на дракона, ни на мышей, а лизать мед самым лучшим образом, особенно если его на кусте попалось много. Соломон выражает этот выход так:
«И похвалил я веселье, потому что нет лучшего для человека под солнцем, как есть, пить и веселиться: это сопровождает его в трудах во дни жизни его, которые дал ему бог под солнцем.
Итак, иди ешь с веселием хлеб твой и пей в радости сердца вино твое… Наслаждайся жизнью с женщиною, которую любишь, во все дни суетной жизни твоей, во все суетные дни твои, потому что это – доля твоя в жизни и в трудах твоих, какими ты трудишься под солнцем…
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим отзывом от прочитанного(прослушанного)! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Уважаемые читатели, слушатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.
- 1. Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации.
- 2. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний.
- 3. Просьба отказаться от нецензурной лексики.
- 4. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.
Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор knigkindom.ru.
Оставить комментарий
-
 Гость Даша11 февраль 11:56
Для детей подросткового возраста.Героиня просто дура,а герой туповатый и скучный...
Лесная ведунья 3 - Елена Звездная
Гость Даша11 февраль 11:56
Для детей подросткового возраста.Героиня просто дура,а герой туповатый и скучный...
Лесная ведунья 3 - Елена Звездная
-
 Гость Таня08 февраль 13:23
Так себе ,ни интриги,Франциски Вудворд намного интересней ни сюжета, у Франциски Вундфорд намного интересней...
Это моя территория - Екатерина Васина
Гость Таня08 февраль 13:23
Так себе ,ни интриги,Франциски Вудворд намного интересней ни сюжета, у Франциски Вундфорд намного интересней...
Это моя территория - Екатерина Васина
-
 Magda05 февраль 23:14
Беспомощный скучный сюжет, нелепое подростковое поведение героев. Одолеть смогла только половину книги. ...
Госпожа принцесса - Кира Стрельникова
Magda05 февраль 23:14
Беспомощный скучный сюжет, нелепое подростковое поведение героев. Одолеть смогла только половину книги. ...
Госпожа принцесса - Кира Стрельникова