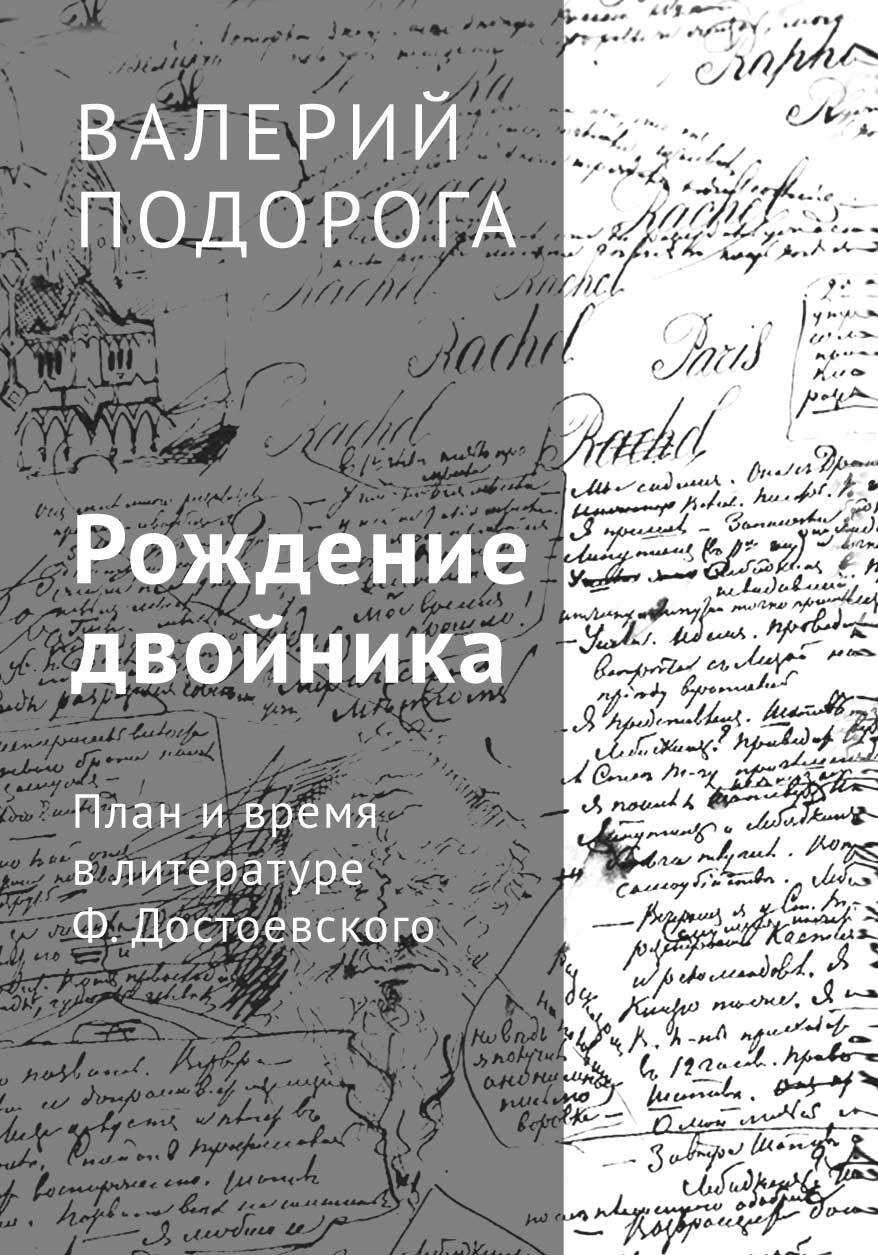Философская топология русской культуры - Сергей Александрович Азаренко
Книгу Философская топология русской культуры - Сергей Александрович Азаренко читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Передача и усиление смысла доходят до того, что раскрывают поверхность знаков к тому непредставимому, которое поддерживает их и нуждается в дискурсивных и повествовательных стратегиях для того, чтобы как-то заявить о себе. Метафора становится таким усилием, которое образовано повествовательным эллипсом. Она рассеивается по разбросанным по всем повествованиям знакам, предполагая, что делает видимым нечто, но не может высказать его полностью. Метафорическому движению культуры противостоит аллегорическое в форме трикстера Иванушки-дурачка. Поль де Ман, развивая идеи Г. Гадамера, утверждает, что превознесение символа над аллегорией является исторической ошибкой, поскольку эти тропы противостоят друг другу как синхронический (пространственный) и диахронический (временной)[70]. В то время как символ постулирует возможность тождества и отождествления, аллегория описывает первичное расстояние между собой и своим истоком и, отказываясь от желания совпадать, устанавливает свой язык в пустоте временного различия. Действуя таким образом, она предохраняет «я» от иллюзорного отождествления с «не-я». Объектом аллегории может стать только то, что когда-то уже случилось, а теперь лишь извлекается из прошлого.
Каждое явление при этом должно прочитываться обязательно через какое-либо другое, причем в терминах особого фигуративного понимания его значения, но в то же время и понимания буквального, ибо в аллегории знаковый процесс направлен сам на себя. Перерыв смысловой работы, происходящий при помещении одного явления в другое, открывает доступ к новым непривычным значениям. Это прерывание может работать в виде особого мимезиса, «передразнивающего подражания», которое изгоняет прежние значения с их мест и при этом деформирует их. В результате этой процедуры знак может выступить в новой роли, не как просто обозначающий свой объект, а как только подразумевающий его через знаковое подражание. Налицо не столько репродуцирование ситуации, сколько ее открытие, не столько обращение к истине, которая соответствовала бы существованию объекта, сколько «подражание» структурирующему процессу работы с ним. Поль де Ман замечает, что аллегория соединяется с иронией, поскольку последняя также описывает модус языка, имеющий в виду не только то, что говорится. Однако в этом отношении возможно и то, что аллегория соединяется и с юмором (об этом говорится в параграфе о культурном герое).
Однако затмение метафорического движения культуры отсрочивается ее укорененностью в «теологическом» (традиционном) корпусе текстов. Информационно-знаковые структуры любой культуры основываются как на «теологическом» корпусе текстов, так и на «светском». И тот и другой корпус базовых текстов обладает универсализмом. Для русской культуры свойственно доминирование «теологической» (фундирующей коллективную память) универсалии, тогда как в европейских культурах превалирует «светская» универсалия. Здесь возможна особого рода культурная обращенность. Платон в «Кратиле» дает орфическую версию Аида. Аид у него не вместилище инфернального и страдательного, а пространство освобождения душ от телесных оков, где они могут предаваться самому из «сильнейших» желаний – общению,– дабы благодаря ему становиться лучше. Владение Аида поэтому населено плотно, потому и имя его Плутон. Согласно доорфической традиции душа умершего отпивала глоток из реки Леты, притока Стикса, реки забвения, и забывала все печали. Но по закону реинкарнации вновь являлась на землю и была призвана совершать все те же ошибки, которые совершала ранее.
Орфики привносят образ Мнемосины (памяти коллектива), которая позволяет утвердить идею воздаяния, ибо поступавший в земной жизни добродетельно, теперь, отпив от озера, приобретает память и уже может не совершать прежних ошибок при очередном возобновлении жизни на земле. В оппозиции «дух – тело» Платон отдает приоритет первому ее члену, ибо античная культура живет со знаковой опорой на теологический корпус текстов (Гомер, Гесиод). Отсюда понятна инициатива описания освобождения «духа» от «тела». Но то же самое присуще русской культуре. С той только поправкой, что русская культура стала представлять собой обращенный Аид – культуру общения, совершающегося не в преисподней, а в наличном бытии.
Радостное общение душ в платоновском Аиде здесь превращено в Ад общения, в заклинании культуры на самое себя. В культурном аду не престало и смеяться. Православие придает смеху соответствующие негативные коннотации, которые выговариваются в тех или иных формулах русского языка: «Где смех, там и грех», «бес шутит, сбивая с пути и пряча нужную вещь». До сих пор «смехотворство» числится в православном уставном каталоге грехов, за которые надлежит приносить покаяние. Будучи глубоко присущим человеческой природе «первофеноменом», смех пробивается у русского через культурные заслоны и принимает потому особенно острые и дионисийские формы. Перефразировав П. Валери, можно сказать, что ад общения превращает носителей культуры в идолопоклонников, принимающих слова за вещи и фразы за действия. Россия в настоящее время переживает ситуацию знакового конфликта, провоцируемого активным вторжением информационных полей «технологических» сообществ Запада. «Заклинание» на «теологическую» составляющую культуры, куда входят корпус теологических текстов, а также структурированные по их типу тексты русской классической литературы, «политической» литературы и т. п., размывается включением «светских» технологических образцов западных информационно-знаковых структур, влекущих к горизонтам нового универсализма.
«Эпоха гласности» ускорила обычный цикл воспроизводства «замороженных» знаков, санкционировав выход на поверхность «подземных вод Мнемосины», пустив в массовый тираж базовые тексты культуры, лишив их тем самым ореола таинственности и предлога для симуляции на содержание последней истины о мире. Здесь необходимо отметить, что феномен подвижности в России имелся всегда, но скорость подвижности была недостаточна для того, чтобы его обнаружить. Однако нынешняя складывающаяся ситуация в России характеризуется как раз тем, что скорость подвижности знаков позволяет обнаружить эти знаки. Россия изначально была местом, где знаки воспроизводили коды традиционной культуры и таким образом производилось место, которое являлось точкой воспроизводства «замороженных» знаков. Воспроизводство традиционных культурных кодов в русской культуре всегда полагалось основным и существенным. Здесь может возникнуть иллюзия, что Россия насквозь традиционалистская по своему существу.
В статье «Русская идея» Вл. Соловьёв[71] ставит
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим отзывом от прочитанного(прослушанного)! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Уважаемые читатели, слушатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.
- 1. Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации.
- 2. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний.
- 3. Просьба отказаться от нецензурной лексики.
- 4. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.
Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор knigkindom.ru.
Оставить комментарий
-
 ANDREY07 июль 21:04
Прекрасное произведение с первой книги!...
Роботам вход воспрещен. Том 7 - Дмитрий Дорничев
ANDREY07 июль 21:04
Прекрасное произведение с первой книги!...
Роботам вход воспрещен. Том 7 - Дмитрий Дорничев
-
 Гость Татьяна05 июль 08:35
Спасибо. Очень интересно ...
В плену Гора - Мария Зайцева
Гость Татьяна05 июль 08:35
Спасибо. Очень интересно ...
В плену Гора - Мария Зайцева
-
 Фарида02 июль 14:00
Замечательная книга!!! Спасибо автору за замечательные книги, до этого читала книгу"Странная", "Сосед", просто в восторге....
Одна ошибка - Татьяна Александровна Шумкова
Фарида02 июль 14:00
Замечательная книга!!! Спасибо автору за замечательные книги, до этого читала книгу"Странная", "Сосед", просто в восторге....
Одна ошибка - Татьяна Александровна Шумкова