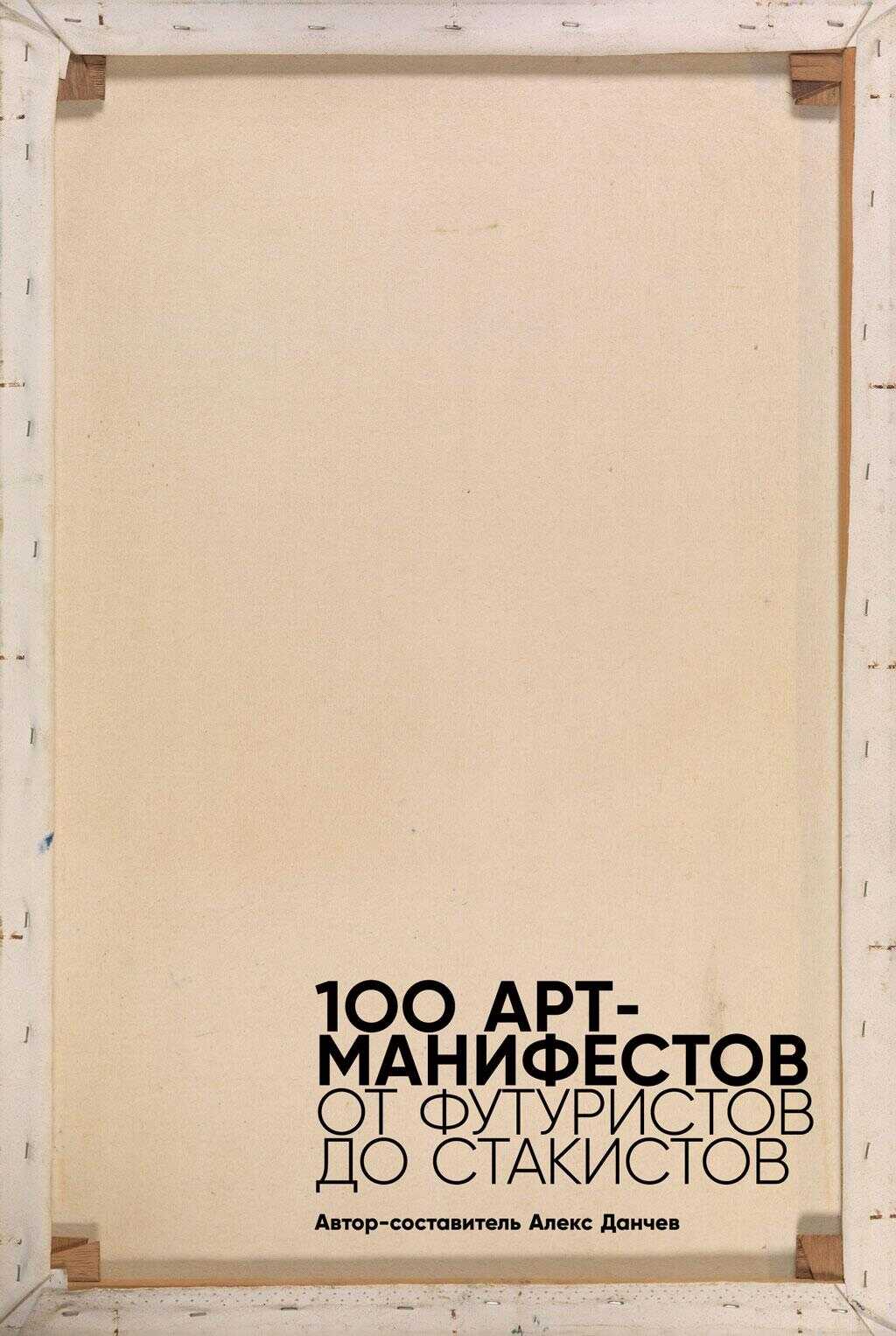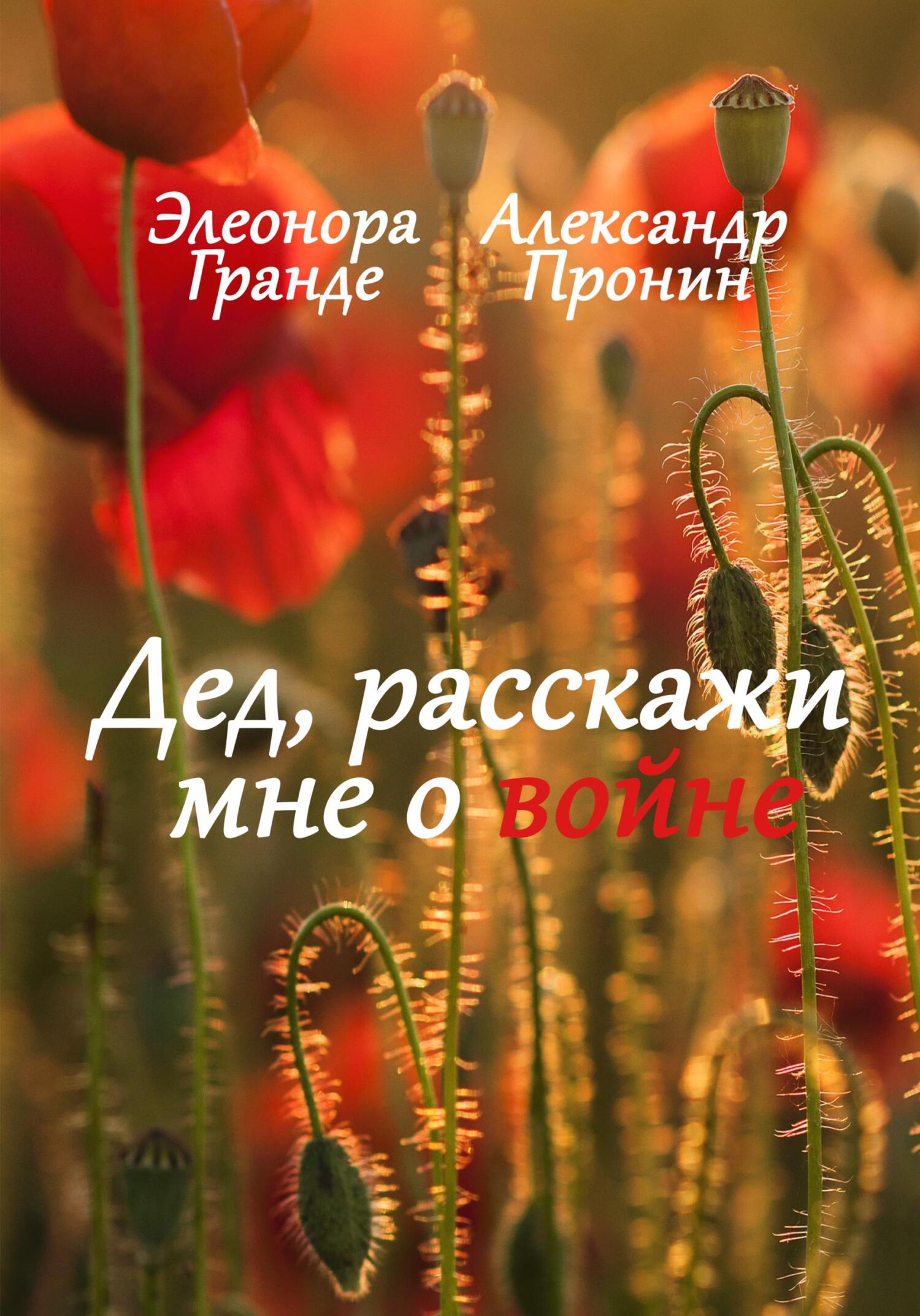Бумажный Вертов / Целлулоидный Маяковский - Александр Алексеевич Пронин
Книгу Бумажный Вертов / Целлулоидный Маяковский - Александр Алексеевич Пронин читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
скабрезный анекдот,
вижу идущего через годы времени,
которого не видит никто (I, 173).
Кроме них, Вертов часто цитирует едва ли не полностью стихотворение «Мама и убитый немцами вечер» (1914): «Что вы, мама? Белая, белая, как на гробе глазет. Оставьте! О нем это, об убитом телеграмма. Ах, закройте, закройте глаза газет!» (I, 66), а также строчку из «Облака в штанах» (1915) «Где глаз людей обрывается куцый…» (I, 185) и другие, содержащие слово «глаз». Очевидно, что все эти многочисленные у Маяковского «зрительные» образы, актуализирующие особую, божественную сущность зрения, послужили одним из факторов перехода Вертова от «слышу» к «вижу». Не случайно Л. М. Рошаль отмечает, что «глаза газет – здесь тоже было что-то киноглазовское»[290].
Собственно, это «что-то» заставляет нас задаться вопросом: а чему же учился у Маяковского Вертов-кинок, что он мог использовать в своих фильмах и кинозамыслах, в работе по организации движения киноков? Искать ответы начну с самого простого – с идейно-организационной деятельности. Безусловно, на самой поверхности лежит факт содействия Вертову со стороны Маяковского в становлении идейно-художественной платформы авангардистского неигрового кино: во-первых, публикацией манифеста «Киноки. Переворот» на страницах руководимого им журнала «ЛЕФ»; во-вторых, привлечением Вертова к деятельности Левого фронта искусств от кинематографа. Как и Алексей Ган, напечатавший годом ранее в своем журнале «Кино-фот» первый манифест киноков «Мы», Маяковский почувствовал перспективу предложенной молодым киноработником концепции, которая в общих чертах полностью соответствовала лефовской «теории факта». Правда, связь Вертова с ЛЕФом, как отмечает А. В. Февральский, была «отнюдь не крепкой»: он «участвует в Первом совещании работников ЛЕФа (январь 1925 г.), но, как говорится в отчете о совещании, „мыслит себе объединение работников, непосредственно связанных с производством“»[291]. О глубинных причинах растущего со временем расхождения Вертова с теоретиками ЛЕФа, главным образом О. Бриком и В. Шкловским, подробно пишет в своей статье «ЛЕФ и кино» О. Булгакова, которая приходит к выводу, что «концепция киноискусства, предложенная Лефом, и взаимоотношения группы с манифестами и теорией Дзиги Вертова – пример парадоксальной „неузнанности“ и точного разграничения в колебаниях между притяжениями и отталкиваниями литературы и кинематографа»[292]. И хотя «кончился их „роман“ нападками почти на все фильмы Вертова, обидами и разочарованиями»[293], нельзя проецировать историю этих отношений на взаимоотношения Вертова с Маяковским, который ко времени превращения ЛЕФа в 1927 году из вольного объединения «в организацию, связанную единством общественных и художественных принципов и организационной дисциплиной»[294] его также покинул.
В предыдущем разделе я уже вкратце обозначил наиболее очевидный пример творческого взаимодействия: Маяковский процитировал в сценарии «Как поживаете?» фильм Вертова «Кино-глаз» и Дзига ответил на его «реплику» своей. Следует отметить, что А. В. Февральский первым заметил, что «в концепции вертовского фильма „Человек с киноаппаратом“ (1929) можно усмотреть параллели с киносценарием Маяковского „Как поживаете?“ (1926)»[295]. Разумеется, прежде всего бросается в глаза их сходство на уровне композиционно-сюжетной организации: «И „часть первая“ сценария Маяковского, и фильм Вертова начинаются с пробуждения действующих лиц, с картин утра в городе, а дальше происходят события дня („Как поживаете?“ имеет подзаголовок „День в пяти кинодеталях“). Герой Вертова – кинооператор – путешествует по жизни, как и герой Вертова – человек с карандашом – сам поэт»[296]. По сути, главным действующим лицом является ПОЭТ, и в обоих произведениях все его действия ограничены пространством города и сутками времени. Эта взаимосвязь – на уровне хронотопа и героя – очевидна, и она обусловлена диалогом авторов на актуальную для обоих тему: «…и Вертов, и Маяковский показывали в своих произведениях взаимодействие творческого человека с городом – нашим, советским городом…»[297].
В эти соображения необходимо внести поправку, поскольку урбанизм Маяковского гораздо старше и, соответственно, сложнее чисто советского урбанизма Вертова. Ранний Маяковский с его установкой на изобразительность в своем футуристическом понимании современного ему большого города, главным образом Петербурга-Петрограда, стремится показать этот город как живой организм:
Слезают слезы с крыши в трубы,
к руке реки чертя полоски (I, 43).
Иногда город предстает в его воображении как целый зоосад фантастических живых организмов. Например, в стихотворении «Из улицы в улицу» (1913) автор создает калейдоскоп подобных образов:
Лебеди шей колокольных,
гнитесь в силках проводов! (I, 38)
Или:
Фокусник
рельсы
тянет из пасти трамвая… (I, 38)
И в своем создании диковинных образов, и в своем видении реальности молодой Маяковский чрезвычайно изобретателен. По верному замечанию Харджиева и Тренина, в стихах Маяковского 1913–1917 годов город предстает «одновременно в двух планах: изобразительном (зрительном) и звуковом (музыкальном)»[298]. Это был период экспериментальной работы со словом, и большой город, с одной стороны, приводил автора в поэтический восторг, но, с другой – проступало снисходительно-критическое отношение к его порокам, выраженное в образе «адища города». В дальнейшем «социальная тематика совершенно вытеснила самоцельные урбанистические пейзажи»[299], а после революции и Гражданской войны Маяковский, ставший глашатаем новой власти, увидел и воспел другой, уже советский большой город:
Москва белокаменная,
Москва камнекрасная
всегда
была мне
мила и прекрасна (IX, 13).
Более того, «советский» поэт Маяковский увидел и другие города (Киев, Казань и др.), которым еще предстояло стать не просто большими городами, а совершенно новыми, городами будущего – как, например, бывший Екатеринбург, а с 1924 года Свердловск:
У этого
города
нету традиций,
бульвара,
дворца,
фонтана и неги.
У нас
на глазах
городище родится
из воли
Урала,
труда
и энергии! (IX, 21–22)
Социально-классовая направленность урбанизма Маяковского 1920‐х годов, очевидно, диктовалась условиями мирного времени, но думается, что в гораздо большей степени она мотивирована психологически, «изнутри». «Маяковского, – отмечал хорошо знавший его О. М. Брик, – интересовали только люди и установление связи между собой и людьми. Этим объясняется его равнодушие к природе, при очень большом интересе к жизни города, к населяющим его людям и учреждениям. При этом интересовался только тем в людях и учреждениях, что непосредственно находилось в плоскости его личных, „живых“ дел»[300].
А что же Вертов? Он «увидел» свой город, по сути, только советским: еще не очень внимательно, вскользь в «Кино-Глазе» (1924), затем уже акцентированно, с вниманием на деталях в картине о Москве «Шагай, Совет!» (1926) и, наконец, в «Человеке с киноаппаратом» (1929). Последний из них и, несомненно, самый знаменитый
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим отзывом от прочитанного(прослушанного)! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Уважаемые читатели, слушатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.
- 1. Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации.
- 2. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний.
- 3. Просьба отказаться от нецензурной лексики.
- 4. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.
Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор knigkindom.ru.
Оставить комментарий
-
 Гость Lisa24 февраль 12:15
Автор пишет хорошо! Но эта книга неудачная. Вроде интрига есть, жаль, неинтересная. Скучно! ...
Хозяйка гиблых земель - София Руд
Гость Lisa24 февраль 12:15
Автор пишет хорошо! Но эта книга неудачная. Вроде интрига есть, жаль, неинтересная. Скучно! ...
Хозяйка гиблых земель - София Руд
-
 Dora23 февраль 10:53
Интересное начало ровно до того, как ведьма добралась до академии, и всё, после этого ее харизма пропала. Дальше стало скучно,...
Пикантная ошибка - Екатерина Васина
Dora23 февраль 10:53
Интересное начало ровно до того, как ведьма добралась до академии, и всё, после этого ее харизма пропала. Дальше стало скучно,...
Пикантная ошибка - Екатерина Васина
-
 Гость Татьяна22 февраль 23:20
Спасибо автору. Интересно. Написано без пошлости. ...
Насквозь - Таша Строганова
Гость Татьяна22 февраль 23:20
Спасибо автору. Интересно. Написано без пошлости. ...
Насквозь - Таша Строганова