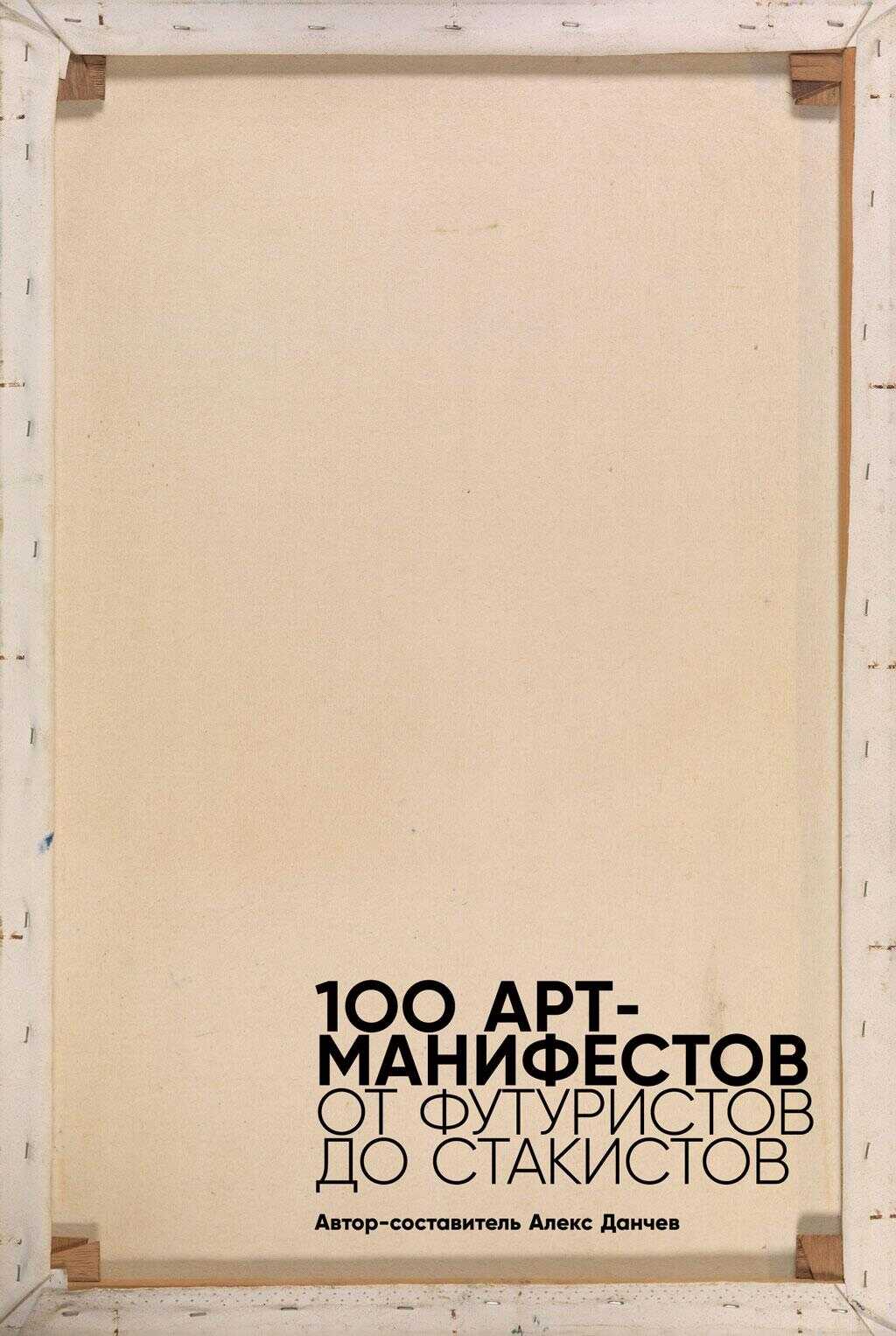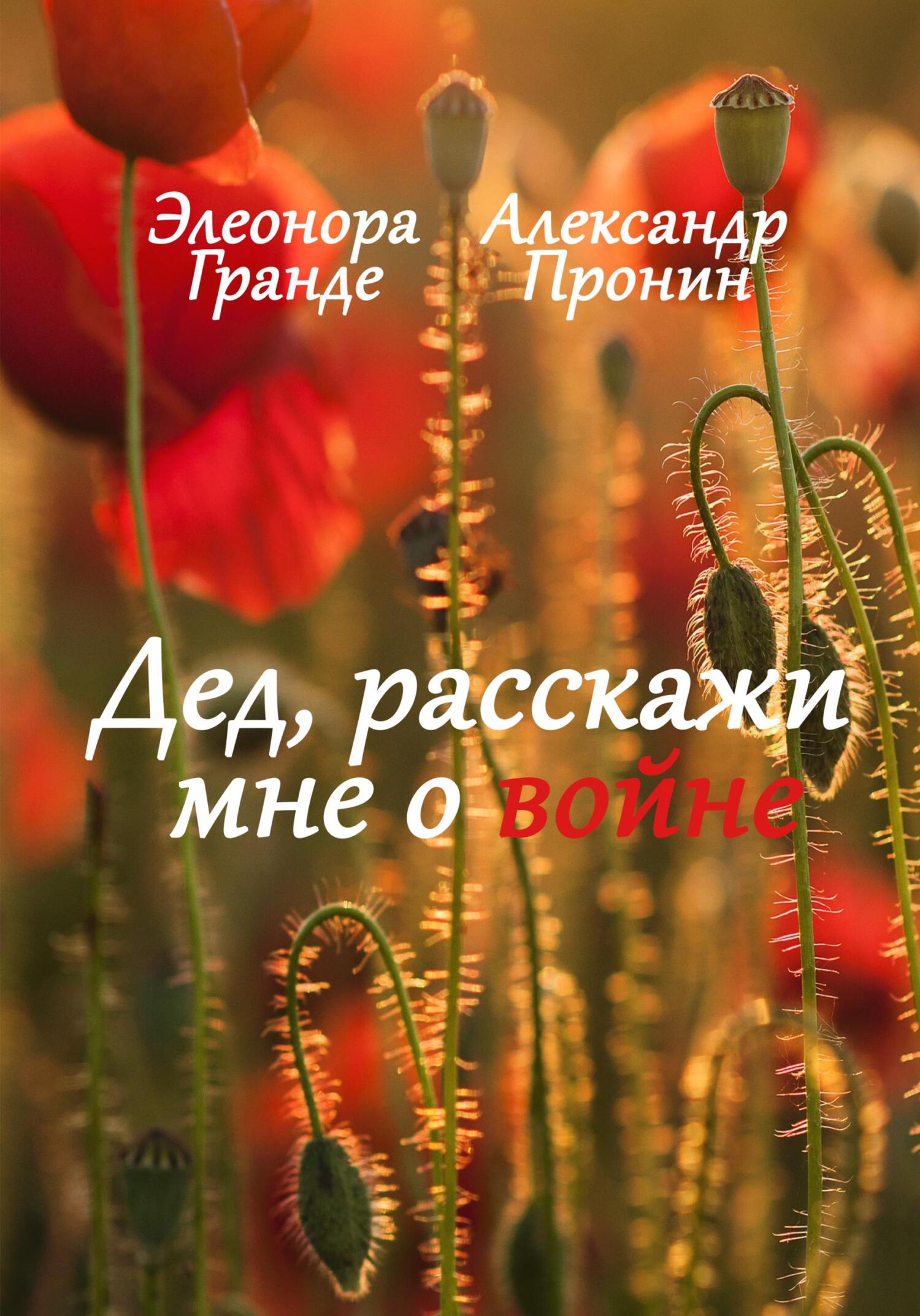Бумажный Вертов / Целлулоидный Маяковский - Александр Алексеевич Пронин
Книгу Бумажный Вертов / Целлулоидный Маяковский - Александр Алексеевич Пронин читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Илл. 35. В. В. Маяковский на открытии выставки «20 лет работы». Фото. 1930 г.
Вертов желал за это «ручаться» и встал на путь собственной суверенности как художника, не обращая внимания на то, насколько она отлична от суверенности «приобретателей», также имеющей место, но такой мелкой в плане «обещания будущности», что заметить ее можно было только в массе. Отсюда и агрессивное отрицание игрового кинематографа как низкосортного зрелища, а следовательно, и презрение к кинопублике, безропотно терпящей старое кино «с выносливостью мулов под грузом преподносимых переживаний» и «мечтательно вздыхающей НА ЛУНУ новой шестиактной постановки»[269]. Да, принято считать, что картины Вертова «фактически утаивались от зрителя», и виноваты в том были работники «Госкино» и других организаций, которые «чинили бесконечные препятствия распространению фильмов Вертова»[270]. Разумеется, подобные факты, многократно приведенные в публикациях о творческом пути Вертова, имели место. Но логично будет спросить: «А не выражали ли советские чиновники тем самым мнение молчаливого большинства? И могла ли советская публика в массе своей отвечать Вертову пониманием или хотя бы желанием понять его эксперименты?» На первый вопрос ответ напрашивается, по сути, утвердительный, на второй: «Разумеется, нет». Те, кто приходил на организованные киноками диспуты и пытался следовать Кино-Глазу, составляли неустойчивое меньшинство – в сравнении с миллионами, «отравленными страшным ядом привычки» к кинодрамам, пассивно сопротивляющимися «перевороту через кинохронику»[271]. И если короткая и привязанная к конкретным событиям «Кино-правда» (особенно первые выпуски, которые сам Вертов считал традиционной хроникой) еще воспринималась зрителем благосклонно, то «Кино-глаз» и многие последующие работы Вертова 1920‐х годов на самом деле широкого зрительского успеха не имели, и «даже сам Вертов догадывался, что образный строй „Человека с киноаппаратом“ не так-то просто „проглатывается“ зрителем»[272]. Отчасти поэтому их автору все время приходилось в прессе и в выступлениях растолковывать смысл своих картин, объяснять непонятные не только критику и начальству (это еще полбеды), но и публике притязания на «расшифровку мира».
Илл. 36. Д. А. Вертов. 1950-е гг.
Несомненно, отношения автор – читатель/зритель в случае с Маяковским и Вертовым существенно корректируются природой их текстов, литературных и экранных соответственно, значит, различий найдется больше. Однако в данном случае для меня важнее найти в этих отношениях общее, то есть оценить на психологическом уровне, как публика в качестве коллективного субъекта могла относиться к своим выдающимся современникам, Маяковскому и Вертову. Безусловно, во все времена и при всех политических режимах взаимоотношения художника-новатора и находящейся под его агрессивным воздействием публики никогда не были простыми, а значит, между ними должна была возникнуть своего рода конвенция. Конвенциональность как характерная черта всякого культурного диалога предполагает «признание за объектом культуры (вследствие установления согласия между участниками социокультурного взаимодействия) определенного набора устойчивых характеристик, выделенных в качестве значимых»[273]. Признавая за массовой публикой 1920–1930‐х годов, в большинстве своем малограмотной, рабоче-крестьянской, несомненное право участника культурного взаимодействия, можно сформулировать ключевые положения конвенции, относящейся одновременно и к Вертову, и к Маяковскому. Оппозиции «свой/чужой» здесь недостаточно, а вот революционность, классовость, энтузиазм – эта триада, пожалуй, должна быть принята публикой в творчестве и личностях наших героев безоговорочно. За рамками данной формулы, маркирующей условную принадлежность к «своим», остается очень многое, и в сущности эта конвенция не распространяется на привычный для «простого человека» уровень бытовых отношений. Как уже отмечалось выше, на своей территории коллективное бессознательное враждебно относится к непонятным ей существам «особой породы», и можно сказать, что «разбилась о быт» не только «любовная лодка» Маяковского, но и «броненосец любви» художника и толпы, прочный лишь на самый первый взгляд. После недолгого периода победной эйфории первой половины 1920‐х годов, принимаемой за любовь новой, советской публики, Маяковский и Вертов, по-прежнему одержимые бесом переворота, были ею, по существу, отвергнуты.
Еще более явной приметой отверженности стало совершенно очевидное уже в 1926–1927 годах противостояние с трансформирующейся на ходу государственной машиной – в лице новых бюрократов от литературы и кинематографа. Именно в этот период у Маяковского и Вертова появляется общий враг, препятствующий работе того и другого в Москве, – правление «Совкино» и конкретно И. П. Трайнин, директор кинофабрики «Совкино». «Сценарные мытарства» Маяковского я подробно представил выше, опираясь на весьма экспрессивные строки из его статьи «Караул!» и текст выступления во время диспута «Пути и политика Совкино» (15 октября 1927 года). Здесь достаточно всего одной цитаты из речи В. В. Маяковского, чтобы понять остроту личной неприязни художника и чиновника: «Ведь поставили людей, которые никогда этим делом не занимались… (Аплодисменты). Один из этих товарищей, очевидно, страдает манией художественного грандиоза, потому что является директором всех художественных фабрик, – это т. Трайнин, и он делает все, как умеет, как понимает… (Аплодисменты)» (XII, 353).
Что касается Вертова, то его конфликт с руководством той же организации хорошо известен по публикациям А. В. Февральского и Л. М. Рошаля[274], однако будет уместно в краткой форме изложить здесь ход и суть событий. После масштабной реорганизации киноотрасли летом 1926 года, когда все кинофабрики, входившие в состав «Госкино», были слиты с занимавшимся преимущественно прокатом «Совкино», руководящие работники последнего составили костяк правления новой структуры, сохранившей название «Совкино». Вертов, оказавшись в непосредственном подчинении Трайнина, не сразу понял, чем угрожает его планам (а он собирался создать Центр документальной кинематографии) эта реорганизация. Никакого творческого объединения «неигровой фильмы» организовать не удалось, более того, руководство «Совкино» стало открыто проявлять пренебрежение к хронике, отдавая предпочтение коммерчески выгодному игровому кино. Вертову буквально не давали работать, а завершение «Шестой части мира» сопровождалось уже настоящей войной, в результате которой Вертов был уволен из «Совкино». «Мы считаем, – писали в письме в «Правду» защитники кинока, – что борьба, которая ведется против т. Вертова, имеет две стороны: первая состоит в борьбе против советской хроники, мастером которой является т. Вертов, – вообще; вторая сторона – это есть борьба против Вертова собственно, и эта сторона лишена деловых соображений»[275]. Но письмо не было опубликовано, а в 1927 году Вертову пришлось уехать на Украину, где ему предложили работать в ВУФКУ. Как писала в апреле 1928 года «Кино-газета», «таким образом, Совкино окончательно потеряло Вертова, по крайней мере на ближайший период»[276]. Для самого кинока это вынужденное, по сути, сотрудничество оказалось чрезвычайно плодотворным, поскольку в условиях относительной творческой и производственной свободы были созданы три шедевра: «Одиннадцатый» (1928), «Человек с киноаппаратом» (1929), «Энтузиазм. Симфония Донбасса» (1930).
Илл. 37. Марка ВУФКУ
С ВУФКУ и «Совкино», как
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим отзывом от прочитанного(прослушанного)! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Уважаемые читатели, слушатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.
- 1. Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации.
- 2. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний.
- 3. Просьба отказаться от нецензурной лексики.
- 4. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.
Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор knigkindom.ru.
Оставить комментарий
-
 Гость Lisa24 февраль 12:15
Автор пишет хорошо! Но эта книга неудачная. Вроде интрига есть, жаль, неинтересная. Скучно! ...
Хозяйка гиблых земель - София Руд
Гость Lisa24 февраль 12:15
Автор пишет хорошо! Но эта книга неудачная. Вроде интрига есть, жаль, неинтересная. Скучно! ...
Хозяйка гиблых земель - София Руд
-
 Dora23 февраль 10:53
Интересное начало ровно до того, как ведьма добралась до академии, и всё, после этого ее харизма пропала. Дальше стало скучно,...
Пикантная ошибка - Екатерина Васина
Dora23 февраль 10:53
Интересное начало ровно до того, как ведьма добралась до академии, и всё, после этого ее харизма пропала. Дальше стало скучно,...
Пикантная ошибка - Екатерина Васина
-
 Гость Татьяна22 февраль 23:20
Спасибо автору. Интересно. Написано без пошлости. ...
Насквозь - Таша Строганова
Гость Татьяна22 февраль 23:20
Спасибо автору. Интересно. Написано без пошлости. ...
Насквозь - Таша Строганова