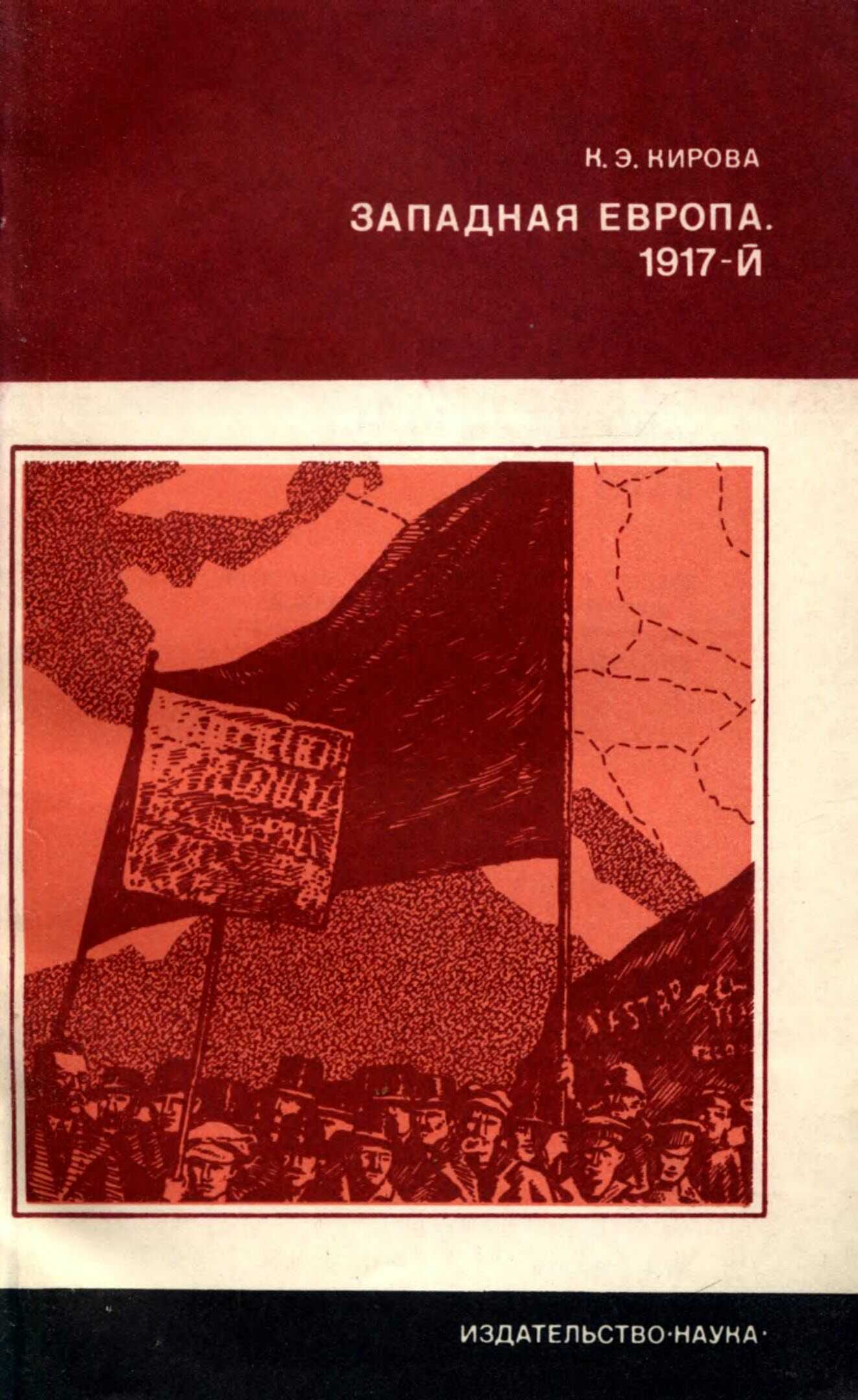Записки. Из истории российского внешнеполитического ведомства, 1914—1920 гг. В 2-х кн.— Кн. 2. - Георгий Николаевич Михайловский
Книгу Записки. Из истории российского внешнеполитического ведомства, 1914—1920 гг. В 2-х кн.— Кн. 2. - Георгий Николаевич Михайловский читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Надо сказать, что, уехав на юг в сентябре 1918 г., я не порвал ни с Психоневрологическим институтом (переименованным к тому времени в 3-й Петроградский университет — 2-м были Высшие Бестужевские курсы), ни с Петроградским Университетом, взяв отпуск и там и здесь. Таким образом, мне шло жалованье, и я из Екатеринослава переслал доверенность на получение денег моим родным в Петроград. В силу этого я мог существовать в Екатеринославе на моё тамошнее академическое жалованье, а в Петрограде у меня имелся запасной фонд. Случилось это само собой, я первые месяцы в Екатеринославе совсем забыл об этом и, только списавшись с родными, узнал, что, несмотря на мой отъезд и невозвращение, продолжал получать жалованье и числиться в списках профессуры без каких-либо отметок о моём отсутствии.
Добравшись до Петрограда, я сейчас же отправился в Петроградский университет и нашёл его в самом безобразно запущенном виде. То, от чего я уже успел отвыкнуть, а именно голод, было самым страшным. Всюду одна и та же картина нищенских пайков, запустения, конины и, наконец, жалких острот касательно пищи («Барыня, лошади поданы» и т.п.). Своего родственника профессора Гронского я застал в самом жалком состоянии. Он, несмотря на то что читал лекции в университете, Политехническом институте и служил в архиве, получал настолько мало, что прямо голодал.
В университетской столовой, где в это время столовались профессора вместе со студентами, были ничтожные порции конины с какой-то подозрительной подливкой. Соответственно и внешний вид петроградской толпы представлял собой безотрадную смесь убожества и голода. Само собой разумеется, научные занятия не могли процветать при таком материальном нищенстве. Топлива, как и пищи, не хватало, университетские помещения отапливались едва-едва, да и то только в тех частях, где устраивались заседания, например лекторская. В аудиториях обычно почти не топили. Студентов совсем мало — единицы. Всё же сила инерции и выдержка были таковы, что университет как-то существовал и научная работа продолжалась, невзирая ни на что.
Больше всего меня поражало не то, что люди в таких условиях находили в себе силы продолжать работу, но то, что они не желали расставаться с Петроградом. Так, например, когда я рассказывал хотя бы о Екатеринославе, где политические условия гражданской войны не исключали сытости и обилия пищи, то никто из моих знакомых профессоров и слышать не хотел об отъезде. Все говорили: «Надо переждать» или «Наладится транспорт — лучше будет». Они крепко держались и за свои кафедры, и за свои квартиры, жили в невозможных условиях, но предпочитали и явное недоедание, и холод неизвестным перспективам, связанным с потерей насиженного места и своих занятий. При этом у многих это носило характер настоящего подвижничества и самоотверженности.
Что касается политической стороны, то появился какой-то отбор тех, которые решили при всех условиях остаться в Петрограде. Эти люди скептически относились к идее насильственного свержения большевиков и ко всякого рода затеям гражданской войны. По сравнению с югом, где жили прошлым и активно желали его возвратить, здесь жили настоящим и лишь желали его улучшения, хотя бы и весьма относительного. Психология тех же самых слоёв русского общества была иная. Те же самые социальные элементы перерабатывались разнородно, и результаты были разные.
Но самым страшным было равнодушие, с каким относились к попыткам «спасения России». Да и нужно ли спасать, говорили мне, всё равно никаких новых сил нет и не может выявиться. А между тем основным мотивом всех рассуждений, помыслов и эмоциональной стороны белого движения было прийти оттуда, с юга, на помощь населению, которое якобы изнывает под большевистским игом. Население действительно изнывало, но, запасшись терпением на многие годы, оно верило не в хирургические приёмы лечения, а в неисчерпаемую силу русского организма, который всё может вынести и ни от чего не сломается.
Этот разрыв в настроениях между югом и севером России был настолько велик, что когда потом, в деникинские времена, белое движение докатилось до Орла, в Ростове-на-Дону строились планы насчёт московского белого правительства и обсуждался вопрос касательно формы правления, ни в Москве, ни в Петрограде никаких попыток к свержению большевиков не было да и психологически не могло быть. А ведь если бы вся русская интеллигенция и примыкающие к ней чиновничьи и офицерские круги горели здесь тем же огнём, каким были одушевлены передовые части Добровольческой армии, то, конечно, в Петрограде и Москве неминуемы были бы вспышки восстания. Те, кого шли спасать, не желали спасаться, а желали приспособляться, приспособленческое же настроение — самая непригодная почва для борьбы.
Пропасть между севером и югом России
Наш ОСМИД продолжал существовать, несмотря на то что большинство его членов покинуло Петроград. Собирались, правда, редко, все «осоветились», т.е. перешли на советскую службу, но по-прежнему чуждались Комиссариата иностранных дел. На южное наше движение смотрели без воодушевления, опасаясь возможности иностранного вмешательства в русские дела. Надо сказать, что хотя в ОСМИДе оставались лишь более или менее второстепенные чиновники (Нератов, Татищев, Некрасов и другие уехали на юг), тем не менее они рассуждали более патриотично, чем все наши главари, и Сазонов в том числе.
Сам процесс борьбы с большевизмом невольно заставлял всё подчинять военно-стратегическим соображениям. Дойти до Москвы, любой ценой свергнуть большевизм — всё это было первой задачей, что же касается будущих международных последствий иностранной помощи, об этом никто не хотел думать. Здесь, в Петрограде, наоборот, думали о России больше, чем о большевизме, думали так: большевизм исчезнет, а новые границы России останутся, и каждую пядь земли придётся потом снова отвоёвывать. Мне представляется, что если бы на юге знали, что думают на севере, то программа не только политики, но и военных действий была бы иная. Но между югом и севером была пропасть. Это были различные плоскости, и интеллигенция там и здесь говорила на разных языках, не понимая друг друга. Разница заключалась и в том, что на севере интеллигенция думала, как народ, а на юге между белыми и населением были отношения завоевателей и завоёванных.
По дипломатическим вопросам мне пришлось в Петрограде говорить
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим отзывом от прочитанного(прослушанного)! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Уважаемые читатели, слушатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.
- 1. Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации.
- 2. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний.
- 3. Просьба отказаться от нецензурной лексики.
- 4. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.
Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор knigkindom.ru.
Оставить комментарий
-
 Гость Наталья20 февраль 13:16
Не плохо.Сюжет увлекательный. ...
По следам исчезнувших - Лена Александровна Обухова
Гость Наталья20 февраль 13:16
Не плохо.Сюжет увлекательный. ...
По следам исчезнувших - Лена Александровна Обухова
-
 Маленькое Зло19 февраль 19:51
Тяжёлое чтиво. Осилила 8 страниц. Не интересно....
Мама для подкидышей, или Ненужная истинная дракона - Анна Солейн
Маленькое Зло19 февраль 19:51
Тяжёлое чтиво. Осилила 8 страниц. Не интересно....
Мама для подкидышей, или Ненужная истинная дракона - Анна Солейн
-
 Дора19 февраль 16:50
В общем, семейка медиков устроила из клиники притон: сразу муж с практиканткой, затем жена с главврачом. А если серьезно, ерунда...
Пышка. Ночь с главврачом - Оливия Шарм
Дора19 февраль 16:50
В общем, семейка медиков устроила из клиники притон: сразу муж с практиканткой, затем жена с главврачом. А если серьезно, ерунда...
Пышка. Ночь с главврачом - Оливия Шарм