Городошники - Татьяна Нелюбина
Книгу Городошники - Татьяна Нелюбина читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Для каждого из них, как и для предка Германа, горное дело было формой служения и наемничества одновременно. Сродни военному делу, дипломатии или шпионажу. Они были ландскнехтами черной и цветной металлургии.
Но у себя в Европе, они и знать не знали, что такое Конжаковский рудник. Они не болели цингой и думали, что комары везде одинаковые и что поставить доменную печь в этих местах – то же самое, что и на Руре. В Европе они были уверены, что закон на их стороне, но вот их окружает дюжина пьяных строгановских крестьян, а приказчик, перед тем, как уйти, бросает равнодушно: «Ты больше не копай здесь, шведская каналья. Не надо». И у них все же хватает сил пошутить: «Я не швед, а саксонец, да и ты – не царь Петр, и тебе быть еще битым».
Это предок Германа так говорит.
На коломенке с грузом меди, кроме предка, приказчика и кормщиков, еще трое солдат. Один пьян, другой замочил порох, но предку не до того, он впервые плывет по чудной реке Чусовой. А навстречу ему из-за живописной скалы выплывают узкие ладьи речных разбойников…
У демидовского приказчика после такой встречи глаз стал беспрестанно подмигивать – нервный тик. А так все, в общем, неплохо закончилось, все-таки живыми остались. А потом у деревни Мельковой, рядом с городом, они снова повстречались с разбойниками – в колодках, с бритыми лбами и без ноздрей. В голодные годы колодников выпускали из тюрьмы на прокорм.
Йохем Рамфельт, старший молотовой мастер, англичанин, но российский подданный, и его шурин, фурмовый мастер Иоганн Дейхманн, присмотрели две казенные квартиры на лучших местах – на берегу пруда повыше плотины, на западной Торговой стороне, где на века вставали командирские дома. Народ там ходил бритый, при шпагах, табакерках и при часах.
А предок Германа вернулся сюда, прожив сезон на Ляле, на Конжаковском руднике. Он год ел завозного лосося с ячневой кашей и забыл, что где-то на свете бывает тепло. Шиловская яма, Гумешки, Григорова гора или студеная речка Логва тоже не сахар, но нигде в мире не бывает таких свар, как на Лялинском заводе.
Он вернулся с Ляли через год, потеряв пару зубов, он не может разогнуть поясницу, у него слезятся глаза. Ему давно уже перестали сниться женщины и родина. Он думает, да черт с ним, с контрактом, черт с ним, с полновесным золотым рублем – его он не сделал счастливым. И зеленые горы Уктуса ему не кажутся больше красивыми. И вот он въезжает, больной и старый, через Мясницкие ворота в этот город. Он лежит на подводе под тулупом и все никак не может согреться. Перед баней так и осталось лесное болотце, берега реки завалены чугунным и медным сором, на рынке торгуют синим горным маслом по шесть копеек за фунт, по улицам бегают стаи собак, потому что солдатам, видите ли, жаль их стрелять. А за крепостными стенами пахнет липами.
И черт с ними, с этими липами!
Но он остался.
Ранним летом, когда наступала короткая пора очень светлых ночей, он поднимался на крепостной полубастион над прудом и смотрел сверху на крытые железом фабрики, на церковь Святой Екатерины и на синие горы вдали. Он приехал из Саксонии. Ему стало тесно в своем отечестве, и он отбыл в страну, наконец-то осознающую себя Европой, на край континента, в край сумасшедших перспектив за деньгами и славой. А земли и недр, слава Богу, на всех хватит, писал верховный уральский правитель, Главный горный командир Вильгельм де Геннин. Подписанная бумага с текстами на двух языках – на родном и на русском – гласила: обещаю, клянусь продать российскому императору за валюту, харч и дрова самое ценное (после бессмертной души) – квалификацию.
Каждый приносил присягу в Обербергамте: и Господь да поможет мне и Его святые слова. Каждый знал: в октябре начинается зима, дороги плохие, до Петербурга полторы тысячи верст. Каждый побывал на всех заводах Урала, покопался на всех рудниках. Одного покалечило взрывом пороха в шахте, другого контузило при испытании насоса. А стекольного и купоросного мастера шведа Христиана Инглина заковали в цепи на Лялинском заводе, чтоб не сгорел от алкоголя, и штрафуют всякого, кто подносит ему чарку. А вот Мария Дрибель хочет за него замуж.
Эту новость, как и другие, они обсуждали наверху, на крепостном полубастионе. Обсуждали и очередное нововведение, непонятное европейцу просвещенного XVIII века, – обязательные отработки школьников на казенных покосах.
Комаров наверху было меньше. Ekatherinenburg – die Wunderstadt!
Расходились по домам, хоронясь от ночных караульщиков, а кому не повезло, тех уводили до утра на гауптвахту для выяснения личности. Лудильщик Готфрид Юнгель упирался:
– Es lebe Европа от Атлантики до Урала! – кричал он. – Всех не пересадите.
Проволочный мастер Томас Миллер вторил ему:
– Это вам не закрытый город! – И что-то еще интересное о свободе передвижения говорил.
Личности выяснял Карл Брандт.
На гауптвахту прибежала жена писаря Степана Баранова, бранилась и была слово в слово застенографирована грамотным солдатом: «Трах-тарарах, диковинка – поручик Карп Иваныч Брант, мы и получше его видали! Трах-тарарах!»
Обербергамт издал тогда свой знаменитый указ:
«Жен, особливо пьяных, в конторы не пущать».
Карл Шкадер, адъютант генерала де Геннина, вернулся из столицы с письмами Петра и Екатерины – в письмах подтверждалось, что название Катериненбурх звучит вполне достойно.
Карл Брант (Карп Иваныч) стал комендантом и полицмейстером Екатеринбурга.
Роза в лисе ушла.
Минут через пять ушел Гера.
Они даже в библиотеке соблюдали конспирацию.
Я бы не соблюдала.
Я бы!..
Э, да что говорить.
– Я в весеннем лесу пил березовый сок, – пел кто-то в дребезжащем трамвае, – с ненаглядной певуньей в стогу ночевал…
Мы с Германом молчали. Не знаю, как он, а я понимала, что мы обречены. Не быть мне его ненаглядной певуньей – стара. Строга. В стог не заманю.
В стекле окна отражалась знакомая дама в чернобурке на шее.
Этого не объяснить. Это в воздухе, вокруг. Двенадцать лет при де Геннине складывались обербергамтские традиции, ковалось Это. Можно сказать – администрация, можно – хозяйственное устройство, можно – «государев интерес» или служба Отечеству. Говорилось одним словом: казна. «Мы умрем, то и руда умрет; все подохнем – казенного интереса не нарушим». И так уж пошла история, что все последующие поколения местных жителей осознанно или неосознанно жили теми традициями,
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим отзывом от прочитанного(прослушанного)! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Уважаемые читатели, слушатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.
- 1. Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации.
- 2. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний.
- 3. Просьба отказаться от нецензурной лексики.
- 4. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.
Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор knigkindom.ru.
Оставить комментарий
-
 Гость Татьяна05 июль 08:35
Спасибо. Очень интересно ...
В плену Гора - Мария Зайцева
Гость Татьяна05 июль 08:35
Спасибо. Очень интересно ...
В плену Гора - Мария Зайцева
-
 Фарида02 июль 14:00
Замечательная книга!!! Спасибо автору за замечательные книги, до этого читала книгу"Странная", "Сосед", просто в восторге....
Одна ошибка - Татьяна Александровна Шумкова
Фарида02 июль 14:00
Замечательная книга!!! Спасибо автору за замечательные книги, до этого читала книгу"Странная", "Сосед", просто в восторге....
Одна ошибка - Татьяна Александровна Шумкова
-
 Гость Алина30 июнь 09:45
Книга интересная, как и большинство произведений Н. Свечина ( все не читала).. Не понравилось начало: Зачем постоянно...
Мертвый остров - Николай Свечин
Гость Алина30 июнь 09:45
Книга интересная, как и большинство произведений Н. Свечина ( все не читала).. Не понравилось начало: Зачем постоянно...
Мертвый остров - Николай Свечин

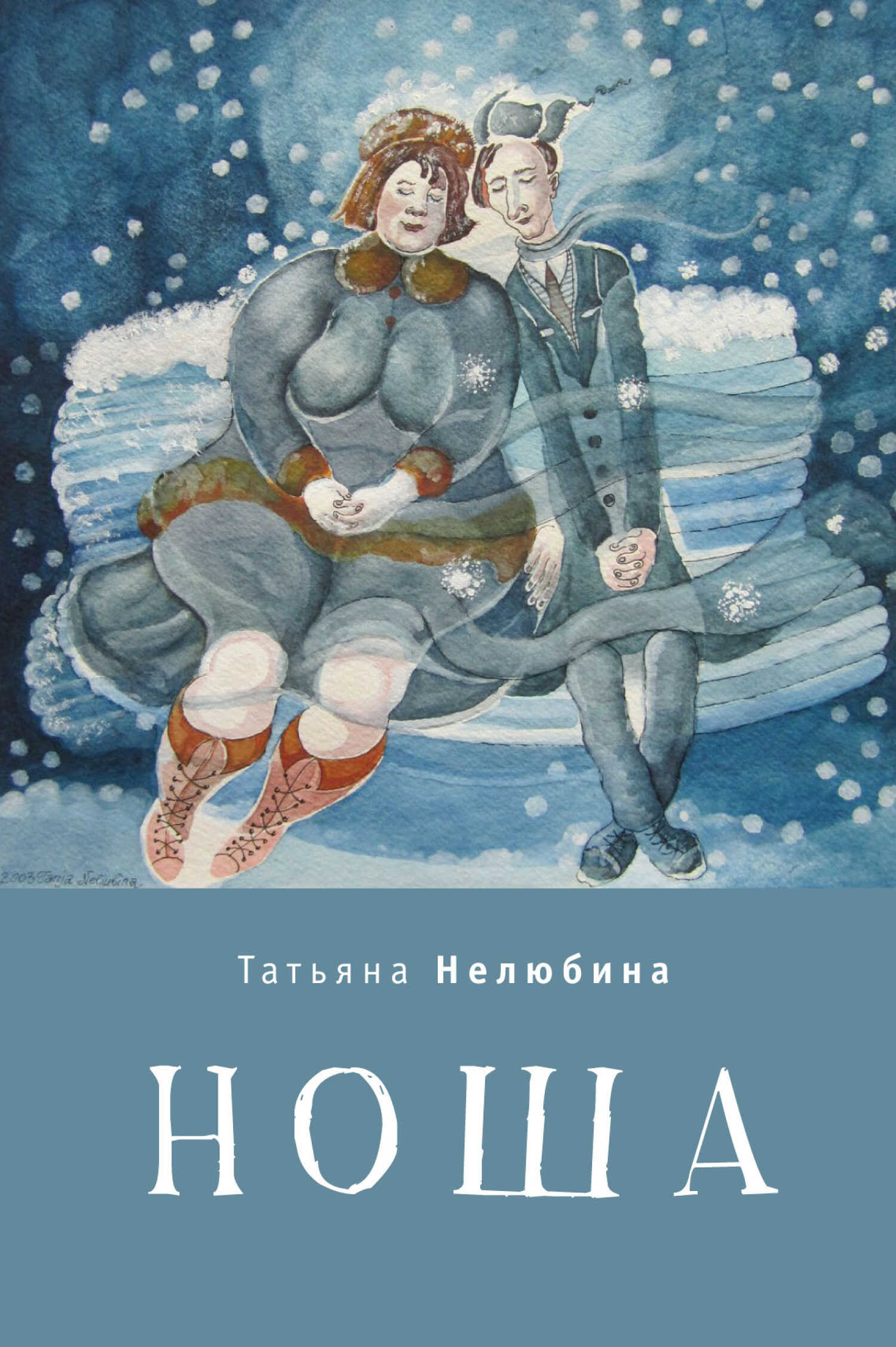

![Двум смертям не бывать [сборник 1986, худож. Л. Я. Катаев] - Ольга Константиновна Кожухова](https://cdn.knigkindom.ru/posts/books/232935/232935.jpg)
![Двум смертям не бывать[сборник 1974] - Ольга Константиновна Кожухова](https://cdn.knigkindom.ru/posts/books/203768/203768.jpg)





