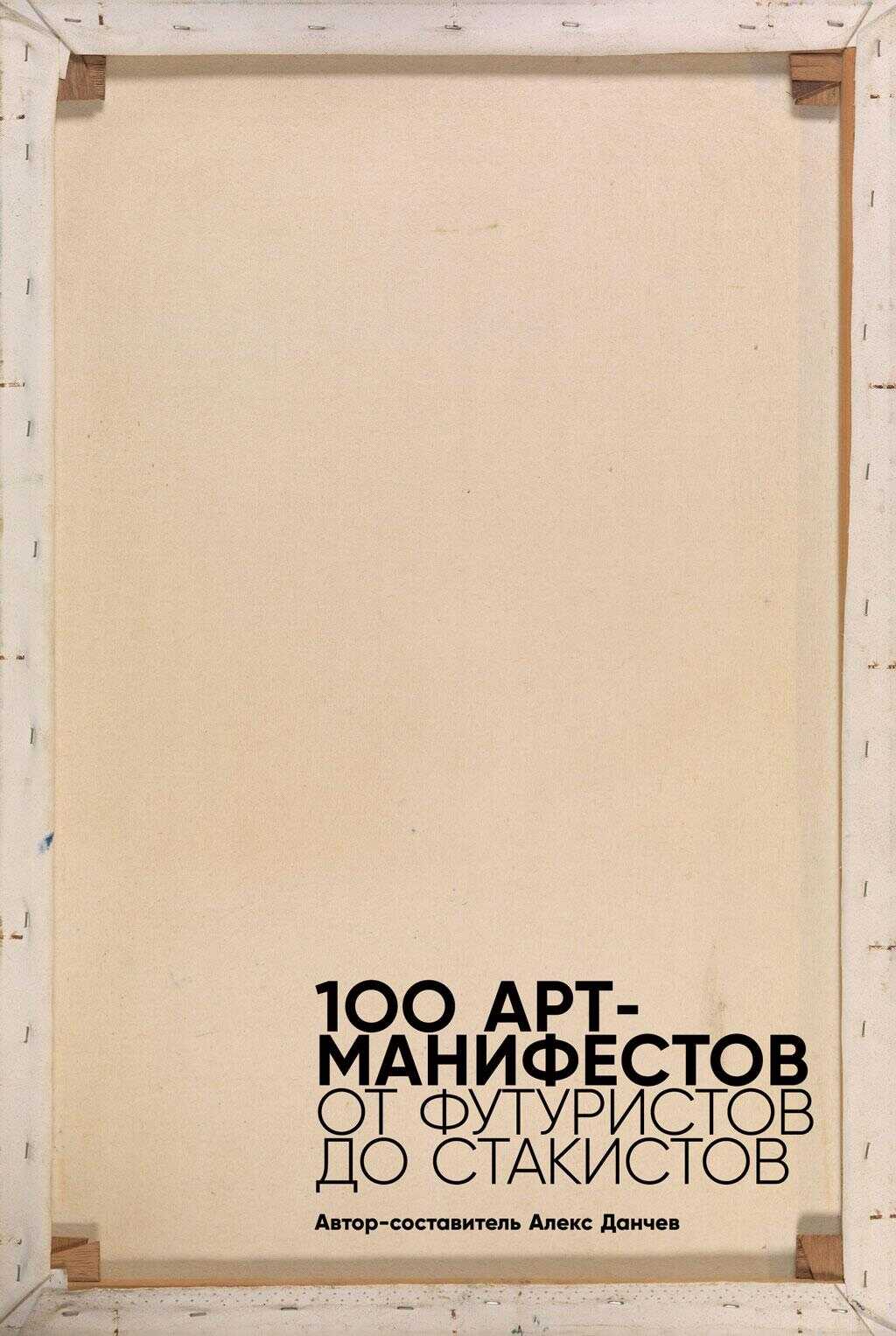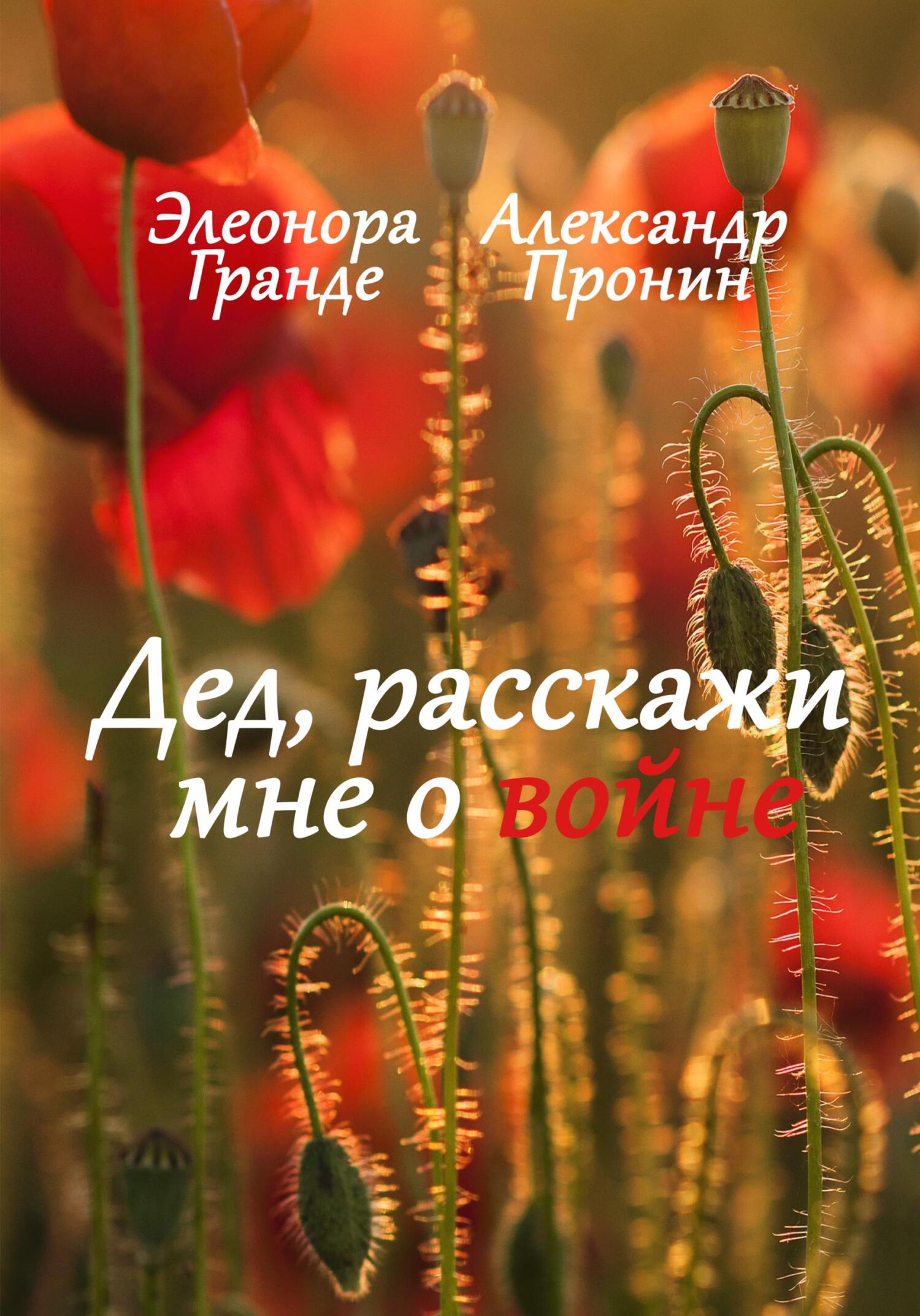Бумажный Вертов / Целлулоидный Маяковский - Александр Алексеевич Пронин
Книгу Бумажный Вертов / Целлулоидный Маяковский - Александр Алексеевич Пронин читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
И какова же связь столь эксцентричного образа с лирическим героем самого Вертова? Думаю, что ее нетрудно заметить – если рассматривать стихотворение в контексте посттравматического опыта, настоящего и будущего. Возможно, мое предположение покажется экстравагантным, но я уверен, что бежавший из Петрограда в Москву от революционной смуты и попавший в «чистилище» Гражданской войны Дзига Вертов подспудно ощущал себя «Черным Пьеро», одурманенным «черпаком отчаяния» в момент, когда повседневной практикой становится «выверчивать человечьи головы» и поедать души. Думаю, не стоит даже пытаться найти какой-то строгий, определенный смысл в отдельных словосочетаниях и строках, но в целом вертовская заумь отражает состояние парализованного травмой сознания: «что делать?» – «чуметь чего?». И в редких поездках по фронтам он отчаянно будет пытаться скрыть и преодолеть свой страх, хотя даже внешне окажется совсем скоро карикатурно схожим с нарисованным собственным им самим образом: весь в черной коже революционера, но с бледным лицом юноши-поэта «со взором горящим». Авангардистские «потроха» творчества Вертова как Черного Пьеро скоро тоже окажутся «на чорта площади», и автор словно предчувствует неизбежность столь драматической метаморфозы. Но она еще впереди, а пока молодой Вертов пытается отмахнуться от своего двойника, он пытается быть заодно с «площадью» и со злой иронией «ряженого» рыжего откликается на фиаско жеманного черно-белого клоуна, сидящего у него внутри и питающегося его душой.
Как самоутверждение, как обретение возможности стать другим: бесстрашным, нашедшим свою силу и способным изменить даже время – звучит стихотворение, также датированное сентябрем 1920 года, с утверждающим перерождение названием «Дзига Вертов»:
Здесь ни зги
– верите –
веки ига и
гробов вериги.
Просто ветров
гибель
века на вертел.
Но – дзинь! – вертеть
диски.
Гонг в дверь аорт.
И-о-го-го! – Автовизги,
вертеп ртов –
Дзига Вертов (226, 20–20 об.).
Разделенное с помощью отрицания «но» на две части, оно построено на четкой оппозиции «до»/«после»: прежний мир, где «ни зги», «гибель», «гробов вериги» и тому подобная жуть, противопоставлен новому, где волшебно «вертятся диски» кино, где рождается под «автовизги» в «вертепе ртов» богоподобный Дзига Вертов. В упомянутой уже статье «Стихи кинопоэта» Л. М. Рошаль анализирует данное стихотворение в контексте толкования псевдонима: «упругость», «предельная натянутость струны», «накаленные слова», «жесткие звуки» и т. д. Разумеется, все это верно, автор продемонстрировал тонкий слух, но вместе с тем «звуковой лад» означает, на мой взгляд, и медно-трубную победу над временем посттравматического отчаяния, преодоление страха смерти («ветров гибель») в погроме революций и гражданских войн, а значит, обретение своего пути, свободного для творческого самоутверждения. Глухие шипящие, определявшие звуковую палитру «Черного Пьеро», сменились на звонкие и свистящие в «Дзиге Вертове», и это превращение минора в мажор показывает, что поэтический мир автора «освоил» травмирующий опыт и нашел возможность жить с ним. Как только закончилась война и миновала опасность хаоса, новый лирический герой заявляет о своем рождении литаврами, но это вовсе не означает, что Черный Пьеро умер – он еще вернется на свое место, когда с середины 1930‐х даст о себе знать старая травма, вновь разбуженная «площадью», на этот раз не привокзальной в Белостоке и не Дворцовой в Петрограде, а Красной и Лубянской в «тихой» Москве.
Илл. 27. Дзига Вертов. Фото. 1920 г.
И в контексте лишь вчерне обозначенной траектории действия травмы на жизнь и творчество Дзиги Вертова[196] совсем по-другому прозвучат его поздние многозначительные строчки:
Пришел юношей среднего роста
в Малый Гнездниковский, 7.
Предложил киноправду.
Казалось бы, просто.
Нет. Не совсем.
Здесь начинается длинная история.
В этой истории разберется История[197].
Думаю, что, начав разбираться, История будет вынуждена, во-первых, перенести начало этой «длинной истории» из 1918 года в 1906‐й, а во-вторых, оценить «революционность» Дзиги Вертова не только по гамбургскому счету его громадного вклада в развитие кинематографа, но и в категориях психологии личности и искусства, где все действительно не совсем просто.
Глава 2. От «слышу» к «вижу»
О Вертове-поэте написано крайне мало, единственная специальная статья на эту тему, к которой я уже апеллировал, опубликована в 1994 году Л. М. Рошалем – «Стихи кинопоэта». И в самом названии статьи уже заложена авторская концепция: стихотворения Вертова, которые он «писал для себя, никогда не для печати»[198], подготовили появление Вертова-кинопоэта. Исходя из этого, автор убеждает читателя рассматривать жизнь и творчество Дзиги Вертова как «единый феномен, а не растаскивать на куски, подчиняя своим интересам»[199]. Разумеется, такой подход оправдан, чему, я надеюсь, послужат и мои скромные изыскания. Вместе с тем имеющиеся факты указывают на то, что жизнь и творчество Вертова состоят именно из «кусков», причем границу между первым и вторым прочертил сам Вертов, а между вторым и третьим – уже История. В первом случае 1922–1923 годы ознаменовали собой осознанный и заявленный им «переход от „слышу“ к „вижу“» (248, 22), когда «бумажного» Вертова-поэта не стало и ему на смену явился Вертов-кинопоэт. Знакомство с архивом показывает, что именно в то время новоявленный Кино-Глаз перестал писать стихи как стихи, в качестве инструмента самовыражения они стали ему не нужны, потому что на творческом горизонте появилось новое средство самовыражения – открытое им экранное «искусство организации движения» застигнутой «врасплох» жизни. Вторая граница, внешняя, закрыла возможность свободно жить и творить не только кинокам, она подвела черту под русским революционным авангардом как таковым, и случилось это, как известно, не в одночасье, и хотя смерть Маяковского в 1930 году фактически ознаменовала собой завершение процесса, Вертова тихо «похоронили» только в 1934 году, когда не пустили в широкий прокат «Три песни о Ленине». Кстати, об этих последних двадцати годах Вертова, изливавшего на бумаге обиду и сарказм побежденного, в упомянутой статье Л. М. Рошаля сказано много и правильно. Меня же, как это понятно из предыдущей главы, больше интересует первый «кусок», когда Вертов еще не стал киноком, а был – пусть и «для себя» – просто поэтом и пытался обрести свой путь. Отсюда и естественный интерес к стихам, которые, во-первых, написаны на этой условной границе между литературой и кинематографом, а во-вторых, имеют прямое отношение к означенному переходу.
Таких текстов немного, и наиболее точно отвечают поставленным условиям всего два: «Старт» и «Из предисловия к поэме „ВИЖУ“». Первое уже было опубликовано в упомянутой статье
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим отзывом от прочитанного(прослушанного)! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Уважаемые читатели, слушатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.
- 1. Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации.
- 2. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний.
- 3. Просьба отказаться от нецензурной лексики.
- 4. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.
Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор knigkindom.ru.
Оставить комментарий
-
 Гость Lisa24 февраль 12:15
Автор пишет хорошо! Но эта книга неудачная. Вроде интрига есть, жаль, неинтересная. Скучно! ...
Хозяйка гиблых земель - София Руд
Гость Lisa24 февраль 12:15
Автор пишет хорошо! Но эта книга неудачная. Вроде интрига есть, жаль, неинтересная. Скучно! ...
Хозяйка гиблых земель - София Руд
-
 Dora23 февраль 10:53
Интересное начало ровно до того, как ведьма добралась до академии, и всё, после этого ее харизма пропала. Дальше стало скучно,...
Пикантная ошибка - Екатерина Васина
Dora23 февраль 10:53
Интересное начало ровно до того, как ведьма добралась до академии, и всё, после этого ее харизма пропала. Дальше стало скучно,...
Пикантная ошибка - Екатерина Васина
-
 Гость Татьяна22 февраль 23:20
Спасибо автору. Интересно. Написано без пошлости. ...
Насквозь - Таша Строганова
Гость Татьяна22 февраль 23:20
Спасибо автору. Интересно. Написано без пошлости. ...
Насквозь - Таша Строганова