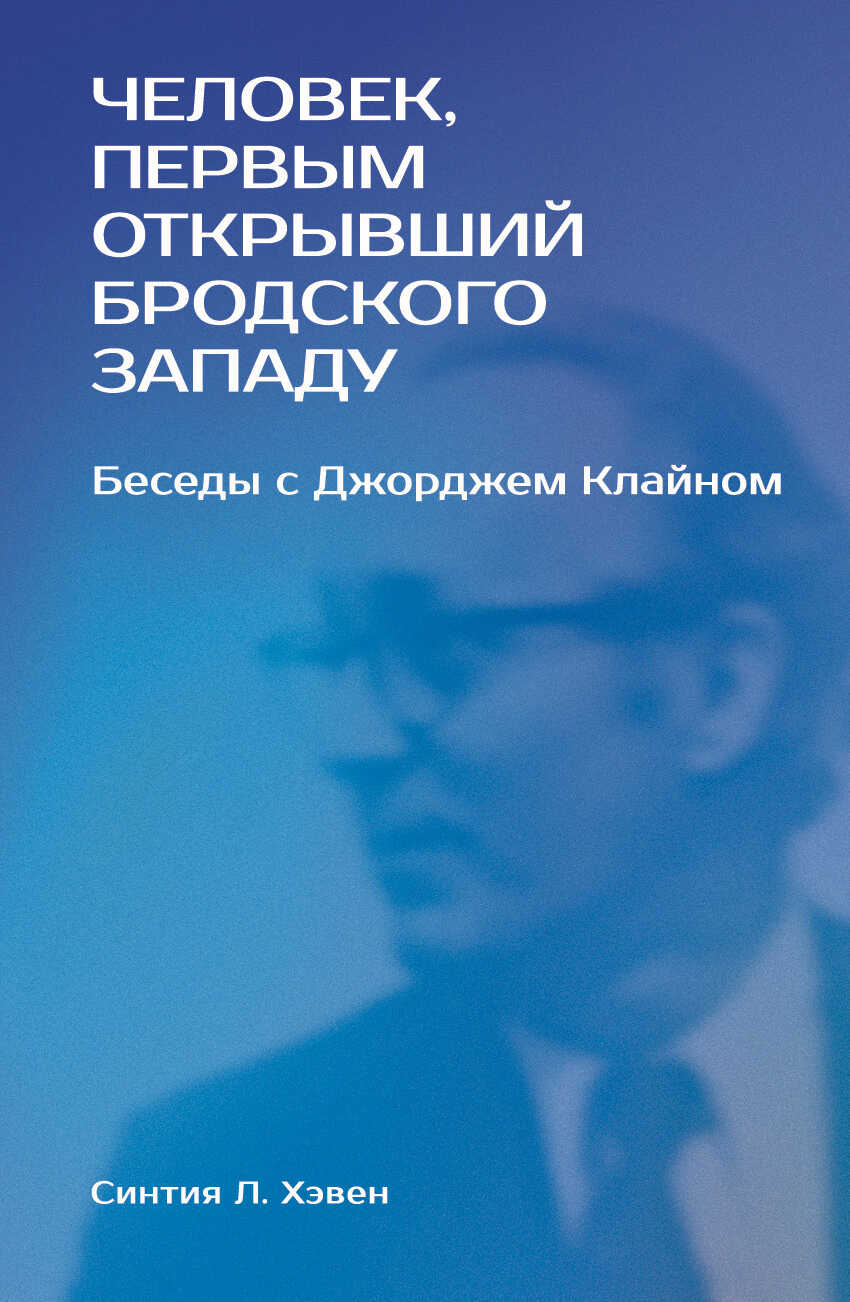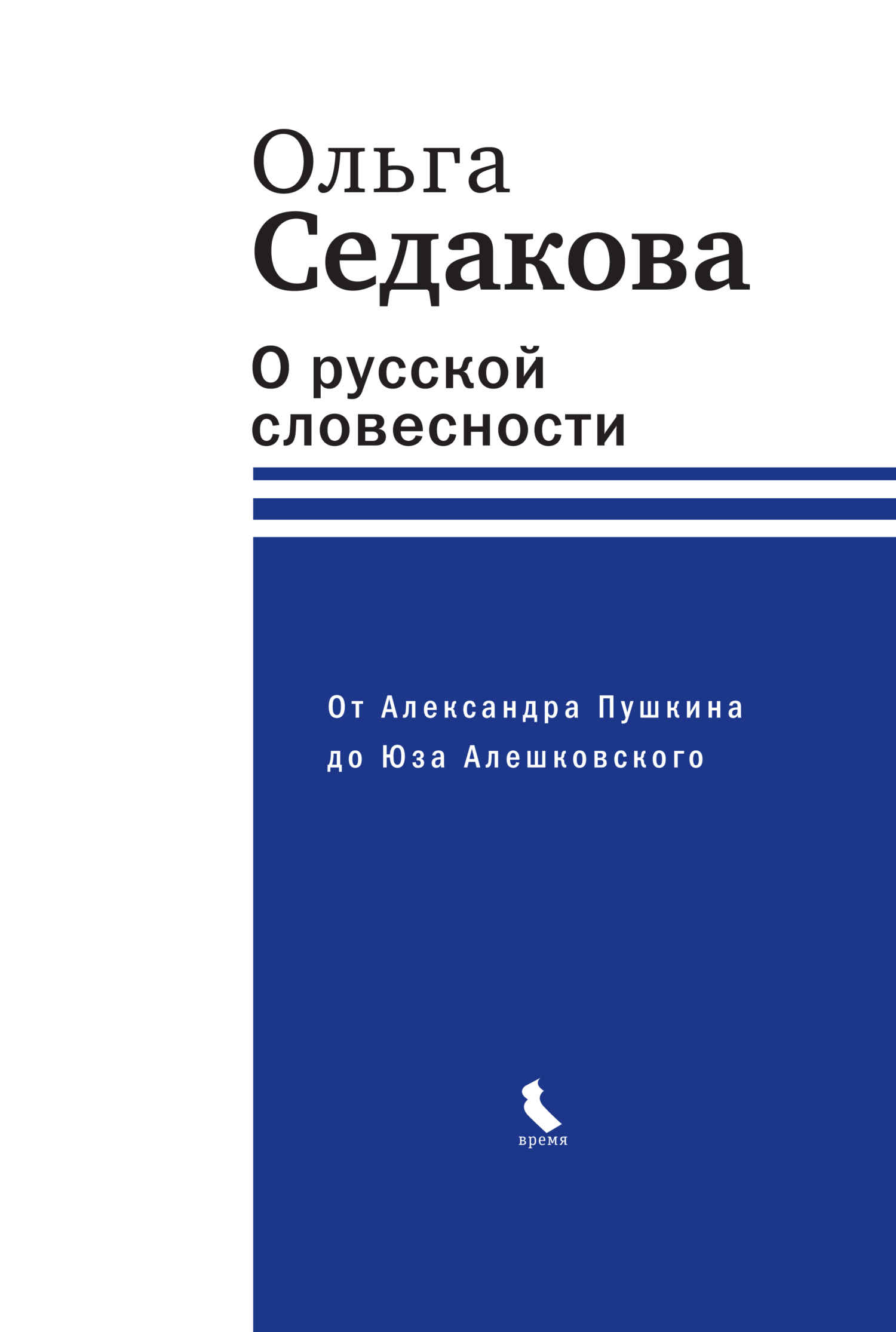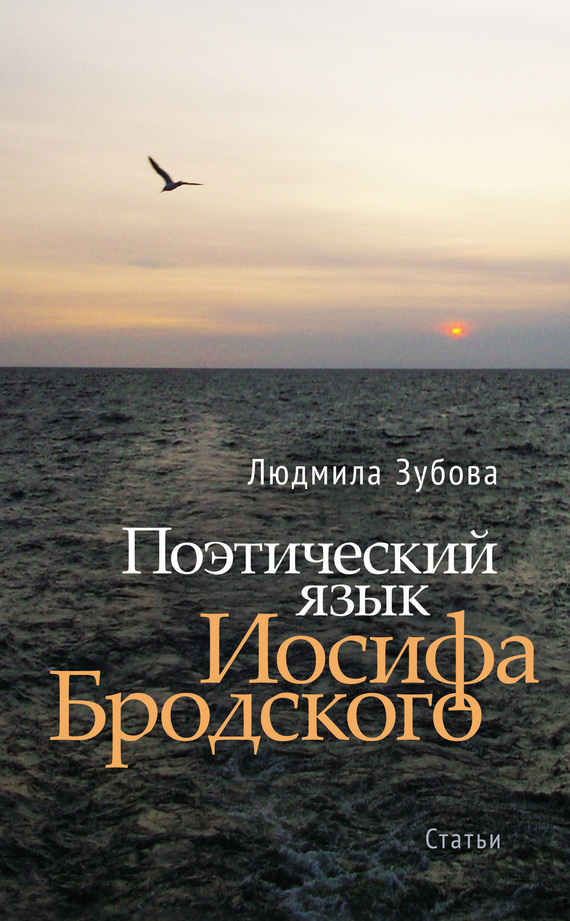«…Ради речи родной, словесности…» О поэтике Иосифа Бродского - Андрей Михайлович Ранчин
Книгу «…Ради речи родной, словесности…» О поэтике Иосифа Бродского - Андрей Михайлович Ранчин читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Однако вода в этом описании символизирует время, взятое вне своих проявлений в феноменальном мире, время ноуменальное, трансцендентное. Это то время, о котором в другом поэтическом тексте Бродского сказано:
Вас убивает на внеземной орбите
отнюдь не отсутствие кислорода,
но избыток Времени в чистом, то есть
без примеси вашей жизни, виде.
(«Эклога 4-я (зимняя)», 1980 [III; 201])
Время как субстанция в чистом, беспримесном виде есть Вечность и само по себе неподвижно.
Как полагает Санна Турома, «поэтическая структура „Сан-Пьетро“ поддерживает <…> идею стирания формы», выраженную в семантике стихотворения. Бродский в «Сан-Пьетро»
отбрасывает классическую структуру, чтобы подчеркнуть с помощью формы тематический уровень, расплывчатость и бесформенность, пейзаж, в котором стерты все элементы, организующие и структурирующие пространство[659].
Как мне представляется, эта характеристика неточна. Безусловно, в стихотворении прослеживается иконическая связь между планом содержания и планом выражения. Однако поэт избирает неклассическую форму не просто потому, что стремится отразить в форме «расплывчатость» и почти безвидность пейзажа: в таком случае ему мог бы более подойти если не «чистый» верлибр, то стих, далее отстоящий от классического. В стихотворении классические силлабо-тонические метры проступают «сквозь» метрику вольного дольника, как очертания зданий и других предметов сквозь плотную пелену венецианского тумана. Отход автора от классических форм стиха и композиции может быть также понят одновременно и как знак, символ размывания культуры, ее норм при движении вспять в праисторию, в докультурное и дочеловеческое состояние, и как указание на складывание, формирование поэзии, культуры, ее правил. Стихотворение Бродского в этом случае должно быть воспринято как символ культуры, истории, структурированности, приятия правил, которые лишь начинают складываться, смутно вырисовываться. При ретроспективном взгляде назад, в прошлое текст должен быть воспринят как поэтическое сообщение о движении времени вспять и о распаде/исчезновении, при взгляде из прошлого, с точки, в которой начинается творение мира, он становится сообщением о формировании культуры – подобно тому как из пустоты и аморфной водной стихии начал формироваться мир в Книге Бытия.
Об интерпретации стихотворения Иосифа Бродского «Муха»[660]
Поводом к написанию этой небольшой статьи послужила прекрасная работа Марии Рубинс о примерах ненормативного словоупотребления в поэзии Бродского[661]. Однако с одной трактовкой исследовательницы я никак не могу согласиться. Она пишет о финале стихотворения «Муха» (1985):
<…> в стихотворении снимается негативный аспект смерти как небытия и утверждается смерть как перерождение, метаморфоза, переход в иное состояние. Вспомним также, что и в западном мифопоэтическом сознании, наряду с превалирующими негативными значениями, муха имела и коннотации бессмертия, вечности (символически выраженные в образе мухи, застывшей в янтаре). Бродский реабилитирует муху не только в контексте пушкинской «Осени» («Ох, лето красное! любил бы я тебя, / Когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи»), но и в более широком, мифологическом, контексте, описывая ее появление «в эмпиреях, где царит молитва» (у древних евреев считалось, что появление этого нечистого насекомого в храме Соломона оскверняло его). Поэт представляет себе стадии посмертного существования мухи: после пребывания в «мушином Раю» (где сонм мух кружится над малиновым вареньем) рой мух устремляется в «действительность» в виде снежинок (ср. «снежные мухи» из стихотворения «В горах»):
Отпрянув перед бледным вихрем,
узнаю ли тебя я в ихнем
заведомо крылатом войске?
<…>
Впрочем, для души этой конкретной мухи Бродский предвидит возвращение на землю весной, чтобы «совпасть с чужою личинкой» и «явить навозу метаморфозу». На этой вполне оптимистической ноте и заканчивается медитация поэта о жизни и смерти[662].
С трактовкой Марии Рубинс во многом совпадают интерпретации концовки «Мухи», принадлежащие Льву Лосеву и Александру Степанову. Первый из них в жизнеописании Бродского заметил:
В «Мухе» воспевается нечто в традиционной лирике невозможное – вялое, неопрятное, полудохлое насекомое. Однако именно воспевается, а не изображается с эпатирующей отвратительностью <…> Поэт находит новый символ метаморфозы, смерти и воскресения в мухе, ползающей под «лампочкой вполнакала» по «бесцветной пыли»[663].
В комментарии к стихотворению это истолкование развернуто:
У Бродского ирония отходит на второй план, лишь слегка оттеняя своего рода религиозный сюжет – метаморфозу низшего, нечистого существа в высокое и чистое: семнадцать двенадцатистрочных гиперстроф <…> посвящены насекомому, «заразы разносчику», но в XVIII–XIX происходит его преображение в «белую муху», летящую с неба снежинку, психею и даже, в строфе XXI, в звезду («подумаю: звезда сорвалась») при том, что звезда в стихах Бродского – образ всегда сакральный. В заключительных строках муха трансформируется в навозную личинку. Автор настойчиво отождествляет себя с антиэстетичным объектом описания: «только двое нас теперь – заразы / источников», «я – твой соузник, подельник, закадычный кореш», «Теперь нас двое». Так разыгрывается сюжет <«Мухи»> – антитеза грязного, смертного и бесконечного, трансцендентного в человека, данная с контрастностью, напоминающей афоризм Оскара Уайльда: «Все мы в сточной яме, но некоторые из нас смотрят на звезды»[664].
Похожим образом понимает стихотворение Александр Степанов:
Апофеоз реабилитации насекомого приходится на финал текста. Мухи, сменившие «цвет сажи» на цвет зимних (белых) мух (метафора падающего снега), превращаются в крылатое войско ангелов. Их «бледный вихрь» – продолжение «бледного роя» душ, рванувшихся «обратно / в действительность». «Мушиный Рай», картины которого даны в заключительных гиперстрофах, объединяет мух и ангелов. Следует ли поэт за талмудической литературой, сказать трудно, но соседство тех и других можно объяснить тем, что, согласно библейскому мифу, мухи, как и ангелы, были сотворены до человека. Неудивительно, что в образе Рая, созданного Бродским, мухи – обязательный персонаж. Опредмечивая в соответствии с метафорой «рай как сад» место вечного блаженства, поэт моделирует восторженно-детское восприятие мира («Эдем – невинное начало пути человечества»). В нем жужжание мух не создает диссонанса[665].
Муха в стихотворении, действительно, лишена однозначных негативных коннотаций, которыми в некоторых других поэтических текстах Бродского она наделена. Пейоративная семантика присуща, например, мухам из стихотворения «Квинтет», где они маркируют отнюдь не райское, а адское пространство «того света»:
Я понимаю только жужжанье мух
на восточных базарах! На тротуаре в двух
шагах от гостиницы, рыбой, попавшей в сети,
путешественник ловит воздух раскрытым ртом:
сильная боль, на этом убив, на том
продолжается свете.
(III; 152)
Другой пример – из стихотворения «Сидя в тени», где о детях, представляющих новое
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим отзывом от прочитанного(прослушанного)! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Уважаемые читатели, слушатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.
- 1. Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации.
- 2. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний.
- 3. Просьба отказаться от нецензурной лексики.
- 4. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.
Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор knigkindom.ru.
Оставить комментарий
-
 Батарея09 август 21:50
Книга замечательная, увлекательная, всем советую прочитать. Отдельное спасибо автору за замечательный слог...
Мастер не приглашает в гости - Яна Ясная
Батарея09 август 21:50
Книга замечательная, увлекательная, всем советую прочитать. Отдельное спасибо автору за замечательный слог...
Мастер не приглашает в гости - Яна Ясная
-
 Волошина Вера Ивановна05 август 04:07
Плохо де вы относитесь а читателям предупреждая их о таком. Ну лабро, бог вам судья и будет возмездие. Книга замечательная. И ее...
Барселонская галерея - Олег Рой
Волошина Вера Ивановна05 август 04:07
Плохо де вы относитесь а читателям предупреждая их о таком. Ну лабро, бог вам судья и будет возмездие. Книга замечательная. И ее...
Барселонская галерея - Олег Рой
-
 Гость Екатерина03 август 20:06
Ужасный сайт. Читать онлайн невозможно. Постоянно викидывает. Нервов не хватает!...
Королевство гнева и тумана - Сара Маас
Гость Екатерина03 август 20:06
Ужасный сайт. Читать онлайн невозможно. Постоянно викидывает. Нервов не хватает!...
Королевство гнева и тумана - Сара Маас