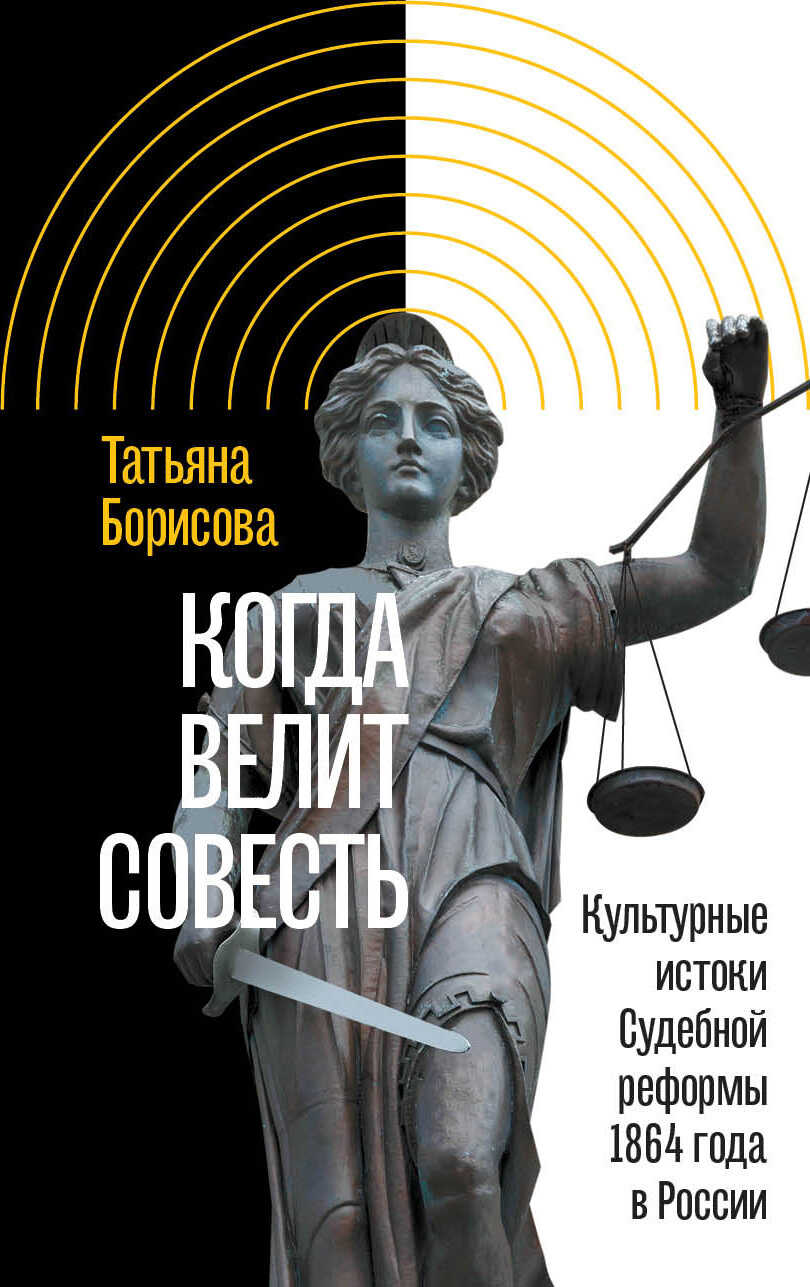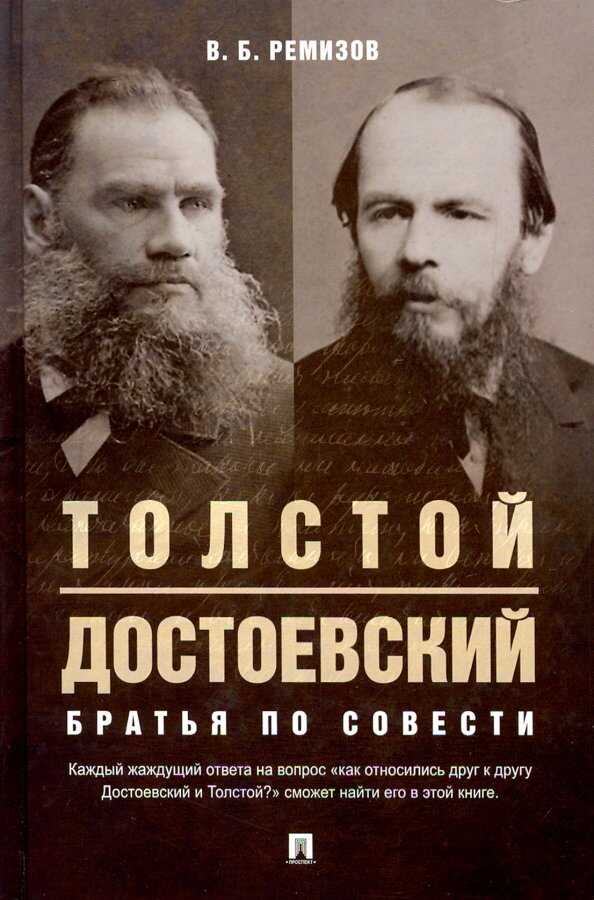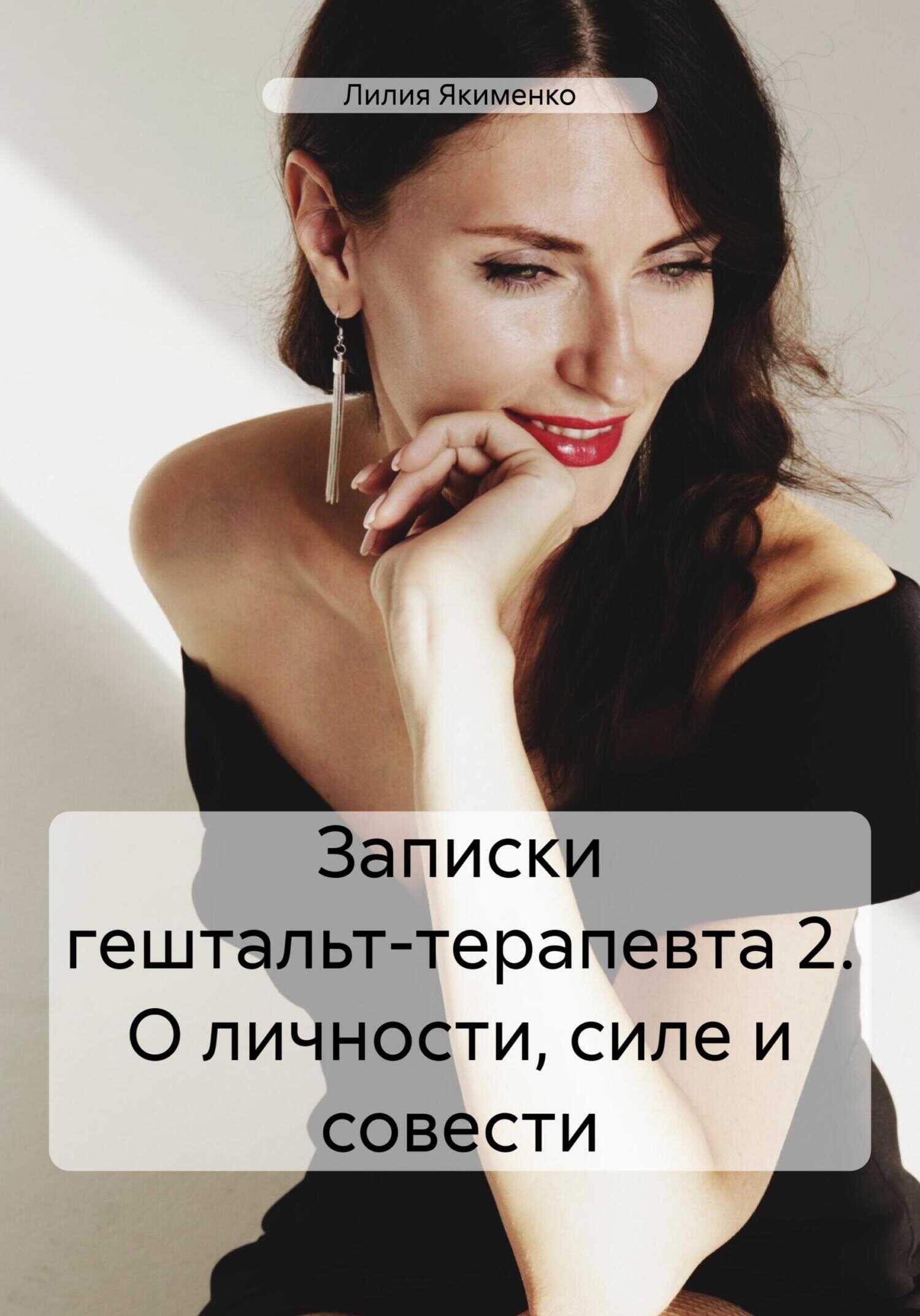Подобие совести. Вина, долг и этические заблуждения - Георгий Игоревич Чернавин
Книгу Подобие совести. Вина, долг и этические заблуждения - Георгий Игоревич Чернавин читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Рукопись начинается и оканчивается мотивом философской работы как оправдания собственного существования, во всей его амбивалентности: философский талант одновременно придает смысл существованию и вызывает чувство вины.
Но что собственно вызывает чувство вины у философа? «Мне приходится жить с людьми, которым меня не понять. [… Эта мысль] часто меня посещает, одновременно с чувством вины» (Wittgenstein [1929] 1994, 90). Откуда же возникает чувство вины? Кажется, здесь пропущен элемент. Этим элементом могло бы быть чувство собственного превосходства, выливающееся в презрение к другим; презрение можно было бы расценить как дурное чувство и испытывать за него вину. Но пропущен ли здесь именно этот элемент?
«Меня стесняло чувство, что этот человек слишком глуп, чтобы что-то ему объяснить или улучшить, и что мне придется оставить его возиться без толку» (Wittgenstein [1929] 1994, 90). Не метафора ли это собственного философского темперамента Витгенштейна, который постоянно говорил студентам: «я дурак», «у вас ужасный учитель», «я просто слишком туп сегодня» (Malcolm 2001, 25)? Тогда стыд касается собственной «неспособности мыслить» (прихода которой он так опасался). В пользу этого прочтения говорит последняя фраза первого абзаца: «Ситуация человека, бесполезно и бездарно разрабатывающего водяное колесо – это моя собственная, когда я в Манчестере безуспешно пытался сконструировать газовую турбину» (Wittgenstein [1929] 1994, 90).
«Бесполезность» и «бездарность» или, другими словами, «необоснованность собственного существования» и «неспособность мыслить» – это то, что Витгенштейн вменяет себе. Но почему тогда он чувствует вину перед другими?
С одной стороны, другим его «не понять», они «слишком глупы, чтобы что-то им объяснять», с другой, они «так хорошо к нему относятся», «так добры к нему», «после Страшного суда он с этими добрыми людьми больше не увидится, потому что они попадут в рай, а он – в ад». Не оказывается ли (возможно, преувеличенная) «доброта» окружающих перевернутой проекцией их (так называемой) «глупости»? Чувство вины Витгенштейн испытывает за свое интеллектуальное превосходство, но переносит эту вину на то, что он в этическом смысле якобы «хуже» других.
Почему тот, кто чувствует себя умнее других, виноват? Может быть, это действительно так (он просто-напросто чуть-чуть умнее и не более того, причем «во внеморальном смысле», без этических коннотаций). Если презрения нет, если этот элемент не просто пропущен, но даже и не предполагается, тогда «водяное колесо» вины крутится на холостом ходу. Если, предположим, Витгенштейн просто умнее окружающих, то тогда ему не за что испытывать вину. Он понимает, что ему не за что испытывать вину сразу перед всеми людьми, и потому он испытывает вину «ни за что», за то, что он вины не испытывает.
Вина состоит в отсутствии чувства вины и сама себя подпитывает: обнаруженное отсутствие чувства вины запускает чувство вины. Эта модель уже стала знаменитой благодаря кьеркегоровской диалектике отчаяния: (мнимое) отсутствие отчаяния – это самая тяжелая и самая распространенная его форма; человек потому уже погряз в отчаянии, что считает себя не подверженным ему; прожитое во всей интенсивности отчаяние не освобождает от себя, но дает хотя бы какую-то надежду, тогда как (мнимое) отсутствие отчаяния совершенно безнадежно (Кьеркегор [1849] 2019, 39–93).
По сходному принципу (оборотничества и парадоксального взаимоперехода вины и невинности) строится тавтологическая модель совести, предложенная теологом Филиппом Конрадом Мархейнеке (1780–1846) и развитая Кьеркегором. Сёрен Кьеркегор в 1841 году в Берлине посещает лекции Мархейнеке «История христианской догматики» и близко к тексту конспектирует их. «Становление собой начинается с растождествления с собой» (Kierkegaard 1997, 258; Marheineke 1847, 225)[67]; «вина – это невинность» (Kierkegaard 1997, 259; Marheineke 1847, 226) – отмечает Кьеркегор в своем конспекте. Через три года датский философ развернет последнюю мысль в трактате «О понятии страха», связав оборотничество вины/невинности с темой экзистенциального страха:
Тот, кто через страх становится насквозь виновным, все же является невинным; ибо он не сам стал таким, но страх, чуждая сила, подтолкнул его к этому, сила, которую он не любил, нет, сила, которой он страшился; и все же он виновен, ибо он погрузился в страх, который он все же любил, хотя и боялся его. В мире нет ничего более двусмысленного, чем это. (Кьеркегор [1844] 2017, 61)
Целиком исходный пассаж из лекции Мархейнеке звучал так: «Вина – это невинность, она такова, будучи собственной противоположностью» (Marheineke 1847, 226). «Совесть есть только у существа действительно причастного добру и злу или злу и добру, чья невинность содержит в себе вину, а вина содержит в себе невинность» (Marheineke 1847, 227)[68] – продолжает немецкий теолог. Для Мархейнеке совесть – это парадоксальное тождество вины и невинности: в силу первородного греха есть только непровинившиеся, но нет полностью лишенных вины; впрочем, и в унаследованной вине есть нечто от невинности.
Почему для Витгенштейна релевантна эта концепция, опирающаяся на доктрину первородного греха? Можно заметить, что он рассматривает язык философии как изначально «отпавший» от повседневного языка, исходно несущий в себе «искушение».
Как указывает Энтони Кенни: «Согласно Витгенштейну, хоть мы и не рождаемся в состоянии философского греха, мы принимаем его на себя вместе с языком» (Kenny 1979, 23). В знаменитом «Большом машинописном тексте» Витгенштейн отмечает для себя: «Вновь и вновь говори себе (философствуя), что мышление должно быть чем-то совсем кустарным. Речь не идет о том, чтобы изучать сущность, полную тайн. [Говори себе,] что ты впадаешь в искушение, когда мышление кажется тебе странным процессом» (Wittgenstein [1933] 2005, 226)[69]. Здесь можно вспомнить либретто «Антиформалистического райка»: «…странным вам это кажется, странным вам это кажется, будто здесь что-то не так. А между тем это так!» (Шостакович [1948] 1993, 95) Помимо искушений, живущих в обыденном языке, язык философии вызывает
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим отзывом от прочитанного(прослушанного)! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Уважаемые читатели, слушатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.
- 1. Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации.
- 2. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний.
- 3. Просьба отказаться от нецензурной лексики.
- 4. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.
Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор knigkindom.ru.
Оставить комментарий
-
 Гость Наталья29 ноябрь 13:09
Отвратительное чтиво....
До последнего вздоха - Евгения Горская
Гость Наталья29 ноябрь 13:09
Отвратительное чтиво....
До последнего вздоха - Евгения Горская
-
 Верующий П.П.29 ноябрь 04:41
Верю - классика!...
Вижу сердцем - Александр Сергеевич Донских
Верующий П.П.29 ноябрь 04:41
Верю - классика!...
Вижу сердцем - Александр Сергеевич Донских
-
 Гость Татьяна28 ноябрь 12:45
Дочитала до конца. Детектив - да, но для детей. 20-летняя субтильная девица справилась с опытным мужиком, умеющим драться, да и...
Буратино в стране дураков - Антон Александров
Гость Татьяна28 ноябрь 12:45
Дочитала до конца. Детектив - да, но для детей. 20-летняя субтильная девица справилась с опытным мужиком, умеющим драться, да и...
Буратино в стране дураков - Антон Александров