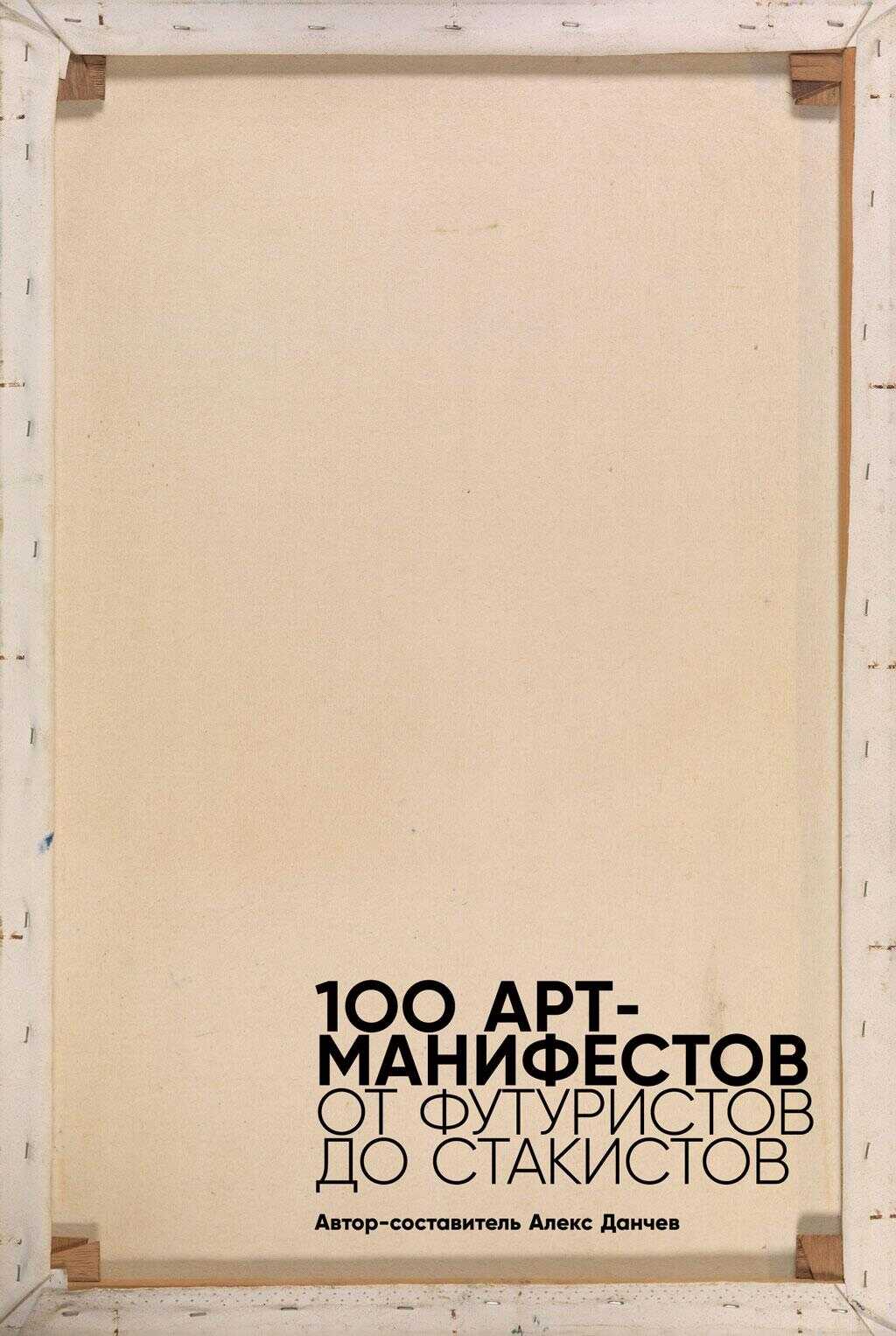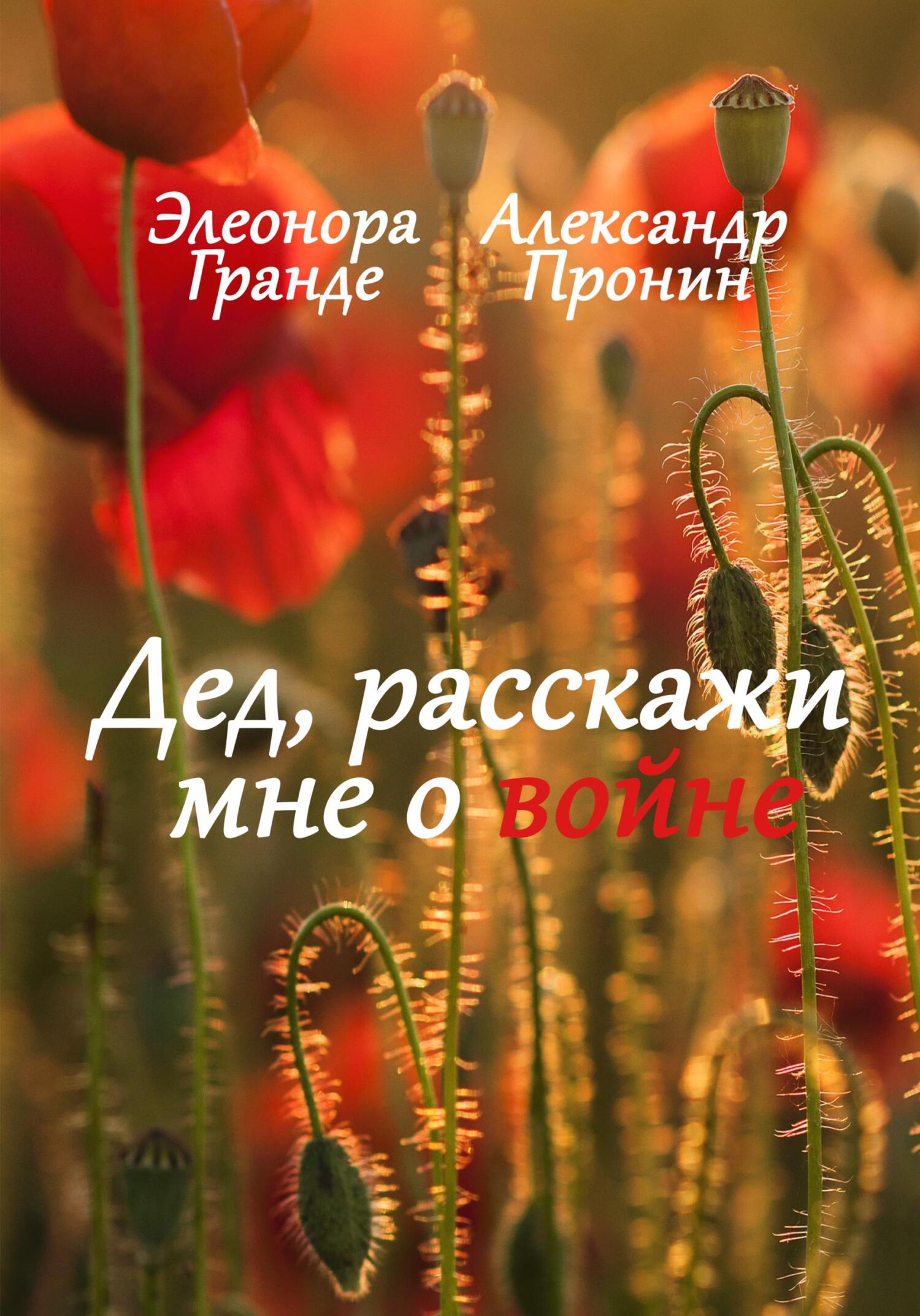Бумажный Вертов / Целлулоидный Маяковский - Александр Алексеевич Пронин
Книгу Бумажный Вертов / Целлулоидный Маяковский - Александр Алексеевич Пронин читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Смело вскочите на плечи старших поколений,
То, что они сделали, – только ступени.
Оттуда видней!
Много далеко
Увидит ваше око,
Высеченное плеткой меньшего числа дней[220].
Нетрудно заметить, что в тексте Хлебникова, написанном все в том же 1921 году, содержится как привычная поколенческая идеологема футуристов, так и будущее вертовское «Вижу!». Вполне возможно, что хлебниковское «много далеко увидит ваше око» можно отнести к числу источников, вдохновивших Вертова на создание концепции киноправды и движения киночества. Тем не менее никаких других старославянизмов Вертов в оборот не ввел да и в текстах своих манифестов и выступлений в паре око/глаз отдал предпочтение последнему. Современное «глаз» получило в риторической практике Вертова гораздо более широкое употребление: как в составе многозначного неологизма «кино-глаз», так и самостоятельно или в иных сочетаниях («обыкновенный глаз», «механический глаз», «глаз киноаппарата» и т. д.).
Вместе с тем изобретенное Вертовым слово «кинок» вызывает у меня довольно неожиданную ассоциацию со словом «инок», т. е. монах, и, думается, это не случайно, несмотря на разницу в ударениях. Разумеется, сам Вертов вряд ли вкладывал в свой неологизм такое значение (хотя «инокиня» в его стихах встречается), и уж тем более нигде открыто о подобном толковании не говорилось. Однако со временем «киноки» стали воспринимать себя не только «разведчиками», но и бескорыстными, аскетичными ревнителями своей веры. Сам Вертов в полемике с критиками неоднократно подчеркивал, что киноки работают на износ в «сыром подвале» – это ли не иночество?! Таким образом, с почти вековой дистанции можно и нужно видеть, как семантическое поле слов «кинок» и «киночество» расширилось благодаря не только созвучию, но и частичной синонимии со словами «инок» и «иночество».
Завершая рассуждение на заданную тему, хочу отметить, что Вертов, безусловно, обладал религиозным сознанием и чувством, реализованными вне традиционных институтов веры (церковь, религиозная община). По сути, его попытки увидеть в творчестве кинока проявление ипостасей Творца вписывается в бердяевскую формулу религиозности человека: «Человек есть религиозное животное и, когда он отрицает истинного, единого Бога, он создает себе ложных богов, идолов и кумиров, и поклоняется им»[221]. В этом смысле эволюция Вертова вписывается в сложную траекторию: от революционного богохульства и «обожения» кино-глаза и самого себя как новой созидающей сущности, Кино-Глаза, он переходит к ревностному и аскетическому служению официально-ортодоксальной «коммунистической религии».
Будучи, несомненно, неофитом этой квазирелигии, Вертов примыкает к тем своим единоверцам, которые выстраивают традиционную монотеистическую модель на основе идеи божественной троицы. В его варианте это единство Ленина как Отца, революции как Святого Духа и Кино-Глаза в ипостаси Сына (мессии, Спасителя). В зрелые годы, практически отлученный от своей коммунистической «церкви», перестроенной Сталиным под классический «троичный» вариант (Маркс – Ленин – Сталин как неделимые ипостаси Бога), Вертов продолжает веровать в Троицу, все более утверждаясь в собственных и чужих глазах как старец-отшельник.
Глава 4. От «фильма без сценария» к сценариям без фильмов
Одним из главных тезисов вертовской концепции неигрового кино был, как известно, отказ от сценария. В важнейшем манифесте «Киноки. Переворот» эта идея только намечена: «Все кинокартины, прошлые и настоящие, наши и заграничные, будь то психологические, будь то детективные – литературный скелет плюс киноиллюстрации»[222]. В последующих выступлениях на диспутах и в печати Вертов усовершенствует найденный образ до «литературного скелета, обтянутого кинокожей» и даже отважится заявить об экспериментальной картине, которую «киноки делают без сценария, без предварительного подобия сценария»[223]. И только в 1924 году, после произведенной «киноразведки», предъявив зрителю свой «Кино-глаз» как фильм, в котором на практике были реализованы основные принципы киноправды, он заявляет в одноименной статье: «Сценарий – это сказка, выдуманная про нас»[224], и далее в специальном разделе «Киноки и сценарий» детально разъясняет свою позицию. Заниматься объяснениями по поводу своего отношения к сценарию Вертову приходится постоянно, и наиболее яркой стала понятная всем формулировка: «…если планировать каждый выстрел, обязательно будет промах»[225]. В итоге, отказавшись от литературного сценария в пользу плана съемок, Вертов определяет свои лучшие работы второй половины 1920‐х годов как фильмы без сценария.
Соответственно, в этой главе речь пойдет не о них. Судьба великого Дзиги Вертова сложилась так, что с середины 1930‐х и до конца жизни он был вынужден не столько снимать фильмы («Три песни о Ленине» и «Колыбельная» – последние значительные работы), сколько как раз писать заявки и сценарии. Режиссер-новатор, попытавшийся полностью отделить язык кино от языка театра и литературы, называвший киноинсценировки реальности предательством, уже к середине 1930‐х годов оказался в положении человека, вначале всеми способами защищающего свои принципы, а затем постепенно отступающего с позиций, на которых стоял.
В первом томе собрания литературных текстов Вертова «Из наследия» опубликованы все его сохранившиеся в РГАЛИ драматургические опыты, всего около 70 наименований. Большая часть написанного в 1930–1950‐е годы так и осталась нереализованной, но эти «тексты для кино» представляют несомненный интерес, в том числе в аспекте нарративных опытов Вертова-сценариста. Почему это кажется мне актуальным? Не только из‐за личного интереса к эволюции Вертова-литератора, которым, по сути, он вновь оказался в конце 1930‐х годов и оставался до самой смерти. Изучение его сценарных текстов с точки зрения нарратологии позволяет ответить на важный для понимания литературного творчества Вертова вопрос: был ли Вертов вообще способен писать сценарии, то есть «рассказывать истории»? Почему он так и не написал ни одного рассказа? Ответив на эти вопросы, мы сможем понять, остался ли Дзига Вертов, как считали и считают многие, только авангардным поэтом, навсегда в 1920‐х годах, или все же он эволюционировал как литератор, как киносценарист.
Для того чтобы разобраться в поставленной проблеме, обратимся к анализу двух сценариев: «Сказка о великане» и «Маленькая Аня». Первый из них, написанный в соавторстве с М. Ильиным и Е. Сегал в 1940 году, был игровым, что уже само по себе интересно для рыцаря хроникально-документального кино. В своих воспоминаниях об этой работе Е. Сегал-Маршак уточняет, что замысел был «написать для малолетнего зрителя cценарий научный и в то же время художественный»[226], работа шла с осени 1939 года до лета следующего года, когда литературный сценарий был утвержден и Вертов с Е. Свиловой приступили к созданию режиссерского сценария, который так и не был принят к производству[227].
Кратко изложить сюжет «Сказки о великане» будет непросто, поскольку он многоуровневый. История, придуманная авторами, такова: некий композитор (условный Скрябин?) сочиняет музыкальную сказку о великане, а его маленькая дочь в эту сказку попадает. Воображаемое девочкой путешествие-наблюдение с великаном составляет
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим отзывом от прочитанного(прослушанного)! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Уважаемые читатели, слушатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.
- 1. Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации.
- 2. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний.
- 3. Просьба отказаться от нецензурной лексики.
- 4. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.
Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор knigkindom.ru.
Оставить комментарий
-
 Гость Lisa24 февраль 12:15
Автор пишет хорошо! Но эта книга неудачная. Вроде интрига есть, жаль, неинтересная. Скучно! ...
Хозяйка гиблых земель - София Руд
Гость Lisa24 февраль 12:15
Автор пишет хорошо! Но эта книга неудачная. Вроде интрига есть, жаль, неинтересная. Скучно! ...
Хозяйка гиблых земель - София Руд
-
 Dora23 февраль 10:53
Интересное начало ровно до того, как ведьма добралась до академии, и всё, после этого ее харизма пропала. Дальше стало скучно,...
Пикантная ошибка - Екатерина Васина
Dora23 февраль 10:53
Интересное начало ровно до того, как ведьма добралась до академии, и всё, после этого ее харизма пропала. Дальше стало скучно,...
Пикантная ошибка - Екатерина Васина
-
 Гость Татьяна22 февраль 23:20
Спасибо автору. Интересно. Написано без пошлости. ...
Насквозь - Таша Строганова
Гость Татьяна22 февраль 23:20
Спасибо автору. Интересно. Написано без пошлости. ...
Насквозь - Таша Строганова